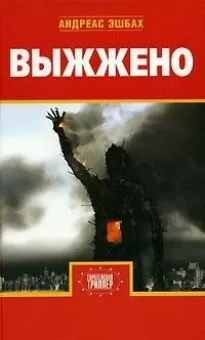Прожитое и пережитое. Родинка

- Автор: Лу Андреас-Саломе
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2002
Читать книгу "Прожитое и пережитое. Родинка"
Переживание России
В нашей семье по отцовской линии смешалась французская кровь с кровью прибалтийских немцев; гугеноты из Авиньона, мы только после Французской революции, после долгого пребывания в Страсбурге, через Германию попали в Балтию, где в Митаве и Виндаве образовался так называемый «Маленький Версаль». В детстве я часто слышала в нашей семье рассказы об этом.
Моего отца[17], еще совсем мальчиком, для получения военного образования привезли в Санкт-Петербург при Александре I. Когда отец уже был полковником, Николай I после польского восстания 1830 года, где отец отличился, пожаловал ему в дополнение к французскому дворянству еще и наследуемое русское. Я до сих пор хорошо помню большой гербовник со словами императора, со старым гербом внизу (он был украшен золотисто-красными поперечными полосами) и русским гербом сверху — с двумя такими же золотисто-красными полосами наискось; в детстве мы часто рассматривали их. Помню также изготовленную для мамы по распоряжению императора заколку — имитацию почетной золотой сабли; на ней висели все ордена отца в сильно уменьшенном, но точном варианте.
Моя мать родилась в Саню — Петербурге, но предки ее были из северной Германии, из-под Гамбурга, а родители по материнской линии происходили из Дании; ее фамилия в девичестве была Вильм, а фамилия ее датских предков — Дуве (то есть голубь).
Не могу вспомнить, на каком языке мы начали говорить; русский, на котором изъяснялось преимущественно простонародье, должно быть, сразу же уступил место немецкому и французскому.
Предпочтение в нашем случае отдавалось немецкому языку; он был связующим звеном между нами и родиной нашей матери, и не только потому, что в немецких землях у нас оставались друзья и родственники, но и как выражение нашей принадлежности к немецкоязычной культуре (но в отличие от знакомых петербургских немцев не к политической Германии); однако мы чувствовали себя не только на русской «службе», но и просто русскими. Я росла в окружении офицерских мундиров. Мой отец был генералом; перейдя на гражданскую службу, он был государственным советником, тайным советником, затем действительным тайным советником, но до конца своих дней занимал служебную квартиру в здании генералитета. Когда мне было примерно восемь лет, я впервые влюбилась в юного (и тогда действительно очень красивого) барона Фредерикса, адъютанта Александра II, а позже министра двора; глубоким стариком ему довелось пережить и свержение императора, и переворот. Моя близость с ним ограничилась следующим малозначительным событием: выйдя однажды в гололедицу из дому и спускаясь по широким ступеням нашего генеральского здания, я почувствовала, что следом за мной идет предмет моего обожания, и, поскользнувшись, села прямо на ледяной наст; поспешившего мне на помощь рыцаря постигла та же участь; неожиданно оказавшись на льду в непосредственной близости, мы удивленно смотрели друг на друга: он весело смеясь, я — с немым восторгом.
По-настоящему русские воспоминания о мире вокруг нас связаны с куда более специфичными впечатлениями, полученными от няньки и прислуги. (Нянька была только у меня.) Моя нянька, ласковая, красивая женщина, была ко мне очень привязана. (Позже она совершила пешее паломничество в Иерусалим и даже была причислена церковью к «малому лику святых»; мои братья хихикали по этому поводу, я же гордилась своей няней.) Вообще русские няньки пользуются славой безграничной материнской доброты, в чем их вряд ли могла бы превзойти даже настоящая мать (правда, они менее искусны в вопросах воспитания). Среди них еще многие вышли из крепостного сословия, и благодаря им слово «крепостная» сохранило оттенок доброты и ласки. Среди слуг в дворянских семьях было много нерусских: татары, из которых набирали домашнюю прислугу и кучеров, так как они не употребляли водку, и эстонцы; были протестанты, греко-католики и мусульмане, молитвенные поклоны на Восток сменялись молитвами в сторону Запада, постились кто по старому, кто по новому календарю, плату тоже получали в разное время. Картина рисовалась еще более пестрая оттого, что нашим сельским имением в Петергофе управляли швабские колонисты, точно придерживавшиеся в языке и манере одеваться обычаев родной Швабии, из которой они так давно уехали. Собственно, о России как таковой я узнавала не так уж и много: только во время поездок к моему второму брату Роберту, который, став инженером, рано ушел из семьи и перебрался далеко на восток (Пермь, Уфа), я познакомилась в Смоленской губернии с числ о русским обществом. Санкт-Петербург, эта привлекательная смесь Парижа и Стокгольма, производил впечатление интернационального города, несмотря на весь свой блеск императорской столицы, нарты в оленьих упряжках и иллюминированные ледяные дворцы на Неве, несмотря на поздний приход весны и жаркое лето.
Мои школьные товарищи тоже представляли разные национальности, сначала в маленькой частной английской школе, а затем и в крупных учебных заведениях, где я так ничему и не научилась. И все же среди них находились знакомые, которые открывали передо мной Россию с новой, политической стороны. Забродивший мятежный дух проникал уже и в школы, свое воплощение он нашел в движении народников. Было просто невозможно жить в это время, быть молодым и не дать захватить себя этому духу, тем более что родители, несмотря на их близость к прежнему императору[18], озабоченно наблюдали за переменами в господствующей политической системе, особенно после того, как «царь-освободитель» Александр II, отменивший крепостное право, стал склоняться в сторону реакции. В стороне от этих мощных эпохальных интересов меня удерживало только энергичное влияние моего друга, которого я любила первой большой любовью: то обстоятельство, что он, голландец, чувствовал себя в России абсолютно как иностранец, заставляло и меня в какой-то мере отдаляться от этой страны; при этом он полагал, что воспитание девушки, склонной, подобно мне, к фантазированию, должно быть направлено на выработку индивидуальных качеств с акцентом не на эмоции, а на трезвую рассудочность. Поэтому единственным знаком моих политических симпатий был спрятанный в письменном столе портрет Веры Засулич, так сказать, основоположницы русского терроризма, стрелявшей в градоначальника Трепова и после оправдания судом присяжных, только что введенным в России, вынесенной ликующей толпой на руках из зала заседаний; она уехала в Женеву и живет, должно быть, там до сих пор. Когда я начала учиться в Цюрихе, экзальтированные русские студенты шумно, факельными шествиями отпраздновали убийство в 1881 году Александра II нигилистами, но тогда я не знала еще никого из моих однокурсниц, почти исключительно студенток медицинского факультета. Кроме того, я считала, что они используют учебу в качестве политического прикрытия своего пребывания за рубежом, так как в России уже давно — значительно раньше, чем где бы то ни было, — женщины получили право на обучение, были даже открыты высшие школы для женщин с полным замещением должностей, к примеру, профессорами медико-хирургической академии. Но я здорово ошибалась: эти женщины и девушки, которые, преодолевая огромные трудности и жертвуя многим, добились права учиться наравне с мужчинами в российских учебных заведениях, а когда эти заведения насильно закрывались, добивались своего снова и снова, считали своим важнейшим долгом как можно быстрее получить хорошее образование. Не для того, чтобы конкурировать с мужчинами и их правами и не из тщеславного желания добиться успехов в науке, а только ради одной цели: чтобы пойти в народ — страдающий, угнетенный, невежественный, нуждающийся в помощи. Поток женщин-врачей, акушерок, учительниц, воспитательниц, так же как и поток непосвященных служительниц церкви, непрерывно вытекал из аудиторий и устремлялся в самые отдаленные, заброшенные уголки, в глухие деревни. Женщины, которым угрожали политические преследования, изгнание и смерть, полностью отдавались тому, что было их сильнейшей душевной потребностью.
На деле речь шла о том, что в революционизирующейся России и мужчины и женщины относились к своему народу, как дети относятся к родителям. Хотя именно они, по большей части выходцы из кругов интеллигенции, несли в народ образование, просвещение, знания, в житейском, человеческом смысле образцом для них был крестьянин, несмотря на свои суеверия, пьянство и неотесанность; такая точка зрения была свойственна Толстому, которому только крестьянская община помогла понять, что значит смерть и жизнь, труд и молитва. Это уже не была любовь по обязанности, любовь из снисхождения; в любви к народу накапливались коренные, первозданные, по-детски непосредственные силы их собственной душевной жизни, от влияния которых вступающая во взрослую жизнь честолюбивая личность никогда не освобождается до конца. Мне кажется, это до сих пор влияет в России и на отношения между полами, несколько снижает высоту любовных связей, которые в Западной Европе за почти тысячу лет стали чрезмерно возвышенными и романтичными. (Только у одного-единственного автора нашла я верное объяснение эротических отношений в России — в замечательной книге очерков принца Карла Рохана «Москва», вышедшей в 1929 году[19].) Как и везде, здесь случаются всякого рода эротические излишества и невоздержанность, может, даже более дикие, чем в других местах, но поверх всего этого собственно духовная жизнь протекает в таких примитивно девственных, инфантильных формах, какие вряд ли встретишь у народов, придерживающихся более «развитых», более «эгоистичных» форм любовных отношений. Поэтому «коллективное» в русском народном языке означает именно тесную связь, сердечную близость, а не благовоспитанную принципиальность, благоразумие или рассудочность. Все экстатическое там полностью обращено внутрь, вопреки подчеркиванию разницы между полами: благодаря этой душевной открытости пассивная жертвенность переплетается с внезапно возникающей революционной активностью.
Многое прояснилось для меня позднее, во время моего третьего пребывания в Париже, в 1910 году[20], когда я благодаря доброте сестры одной террористки получила доступ в их круг. Это было после трагической истории с Азефом[21], когда самый необъяснимый и чудовищный из всех двойных агентов, разоблаченный Бурцевым, оставил после себя неописуемое отчаяние. Я тогда буквально нутром почувствовала, насколько отчаянная решительность кучки революционеров-бомбометателей, готовых без раздумий пожертвовать своей жизнью во имя веры в свою смертоносную миссию, соответствует такой же бездумной, пассивной набожности крестьянина, который принимает свой удел, как будто он дан ему Богом. Истовая религиозность в одном случае побуждает к покорности, в другом — к активному действию. Обеим жизням, всему тому, что проявляется в них частным образом, предпослан девиз, взятый уже не из приватной сферы. девиз, благодаря которому и мучения крестьян, и мученичество террористов осознают как свою спокойную терпеливость, так и внезапные приливы активности. Когда социальные революционеры после почти столетних трагических усилий из-за успехов большевизма были поставлены в безвыходное положение, поскольку время далеко обогнало их совместные мечты, все та же истовая религиозность народа привела к появлению третьего типа: это был освобожденный пролетарий, которого привлекли к соучастию в трудах и успехах, то есть, благодаря новым способам принуждения, в тысячекратно воссозданной нищете — и в оргии добровольной активности. Ведь его прежняя пассивная доверчивость вознаграждена была блестящей видимостью неслыханных свершений в жизни народа и страны, свершений, которые казались ему такими же чудесными, как ожидаемое христианами в канун 1000 года Царство Божие на земле. Поэтому он стал естественным врагом своего брата, крестьянина, на долю которого выпали одни только неприятности: его мирный примитивный деревенский коммунизм был разрушен абстрактными политическими предписаниями, которые не имели ничего общего с его прежней покорностью и преданностью, так как были направлены против религии и веры в Бога. Таким образом, крестьянство, сплотившееся вокруг своих крестов и колоколов и своих представлений о Боге, увидело в большевизме враждебную, дьявольскую силу.