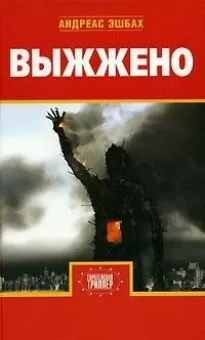Прожитое и пережитое. Родинка

- Автор: Лу Андреас-Саломе
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2002
Читать книгу "Прожитое и пережитое. Родинка"
Последняя зима
Тяжелым серым грузом давила на нас всех зима 1879–1880 годов. Путешествующие иностранцы могли бы подумать, что город на Неве уснул над своей скованной льдом рекой. Казалось, еще пустее и длиннее стали прямые улицы, равнодушно проходили, не глядя друг на друга, люди, словно какая-то тупая окоченелость мешала любому проявлению жизни.
Но за этой внешней неподвижностью таились беспокойство и напряжение… Тут и там на площадях и перекрестках можно было увидеть отряды конных полицейских; неохотно пробирался с наступлением ночи дворник к своей скамейке у ворот, так как уже случалось, что такой вот несчастный, закутанный в овчину сторож на следующее утро сидел на своем месте мертвый, застреленный невидимой рукой. После десяти часов вечера никому не разрешалось выходить из дома без желтого письменного разрешения, выдаваемого в полиции. До убийства Александра II оставался еще год, в Зимнем дворце пока не прозвучал взрыв, по улицам с тайными подкопами люди ходили, еще ни о чем не догадываясь, охотнее всего покупалось дефицитное масло — в новых лавках у дорожной насыпи; внутри бочонков с маслом иногда попадалась обыкновенная земля. Но души людей уже угнетал тупой груз надвигающихся событий
Вследствие реакционного поворота во взглядах некогда восторженно приветствуемого «царя-освободителя» в среде свободолюбивой молодежи нарастало опасное брожение, пока — после движения «друзей народа» последнего десятилетия и просветительской деятельности «народников» на селе — дело не дошло до образования революционного исполнительного комитета и до террора. Время от времени мы узнавали в доме дедушки о внутриполитической ситуации благодаря тому; что тогдашний военный министр Милютин — один из самых последних представителей когда-то влиятельной партии реформ, еще остававшихся в правительстве, — иногда встречался с ним на правах старого знакомого.
Однако, находясь в центре всего этого, мы все же оставались всегда чуть-чуть в стороне от них; тут было сходство с войной, которая только в воспоминаниях о прекратившемся в легенду Виталии обрела для нас свое лицо. Хотя мы с детства говорили по-русски, Борис носил русское имя, а я — уменьшительно-ласкательное, без которого в этой стране не обходится почти никто, мы никогда не забывали, что наша родина находится далеко отсюда, в Южной Германии — пусть даже мы и отдалены от нее многими поколениями. Не позволял нам забывать об этом отец — правда, скорее, непроизвольно, ненамеренно, тем, что просто поставил на свой письменный стол выцветшие фотографии с видами родных мест, словно это были снимки дорогих сердцу родственников, или же тем особым почтением, с которым он относился ко всем предметам, даже самым бесполезным и поврежденным, только потому, что они перешли к нам по наследству с давних времен, когда родители наших родителей еще не переселились в Россию.
Мы, таким образом, в первую очередь ощущали свою связь с остальными иностранцами, которых было немало, — даже непредвиденные браки с «настоящими русскими» случались реже, чем такие же между собой. Немцев, французов, англичан, голландцев, шведов отделяли от русских и тесно сплачивали между собой их церкви; евангелические церкви, куда ходило большинство, и школы при них — несмотря на неимоверную разбросанность общин по огромному городу — были своего рода центрами, куда, как на родине, словно стекались улицы, на которых жили иностранцы. Это интернациональное сообщество благодаря широте и великодушию принятых в России правил общения придавало нашей жизни более светское и в то же время более естественное очарование, чем, вероятно, такое было бы возможно в любом другое месте, и пока была жива мама, мы участвовали и жизни общества. Мама умела это делать со свойственной ей веселой непринужденностью, пленявшей и молодых, и стариков, хотя отец, рядовой магистр физики и математики, преподававший в высших учебных заведениях, был не в состоянии устраивать в своем доме роскошные приемы. Мама издавна воплощала в себе то, что привносило в его жизнь очарование или упоение, с ее смертью отец втихомолку все больше и больше тосковал по родине, которую знал только по нескольким поездкам. Все острее ощущал он в размашистой жизни столичных эмигрантских кругов какую-то странную самодовольную узость — так сказать, особый род филистерства, которое только внешне напоминало космополитизм, ибо — не имея прочных корней ни здесь, ни за рубежом — оно воздерживалось от активных действий. «И вообще, что это за город, Господи, — все чаще говорил отец. — Второпях воздвигнутый там, где уже не было сельской местности, он, кажется, убегает от села и забывает о том, что было до него; он все время как бы начинается сызнова, не помня предпосылок, не зная прошлого. Откуда же тут взяться будущему или хотя бы настоящему?»
В уединении этих серых, тяжелых зимних дней, примерно год спустя после смерти моей матери, в нашу жизнь снова вошел Виталий.
О его визите нас известил дедушка. Виталий, поселившись у родственников, намеревался осуществить свое давнее заветное желание и выдержать экзамен на аттестат зрелости. Но когда он предстал передо мной и моими братьями собственной персоной, его появление показалось нам, несмотря на извещение дедушки, внезапным и неожиданным. Мы были в комнате братьев. Какое-то время никто не мог произнести ни слова. Затем у меня вырвался радостный крик; «Виталий!» — словно та наша первая встреча вобрала в себя все детство.
— Муся! — тек же радостно воскликнул он, и лед был сломан. Борис обнял вновь обретенного друга, а Михаэль, возрастом почти не отличавшийся от Виталия, принял его как равного.
Он сделал какой-то жест не правой рукой, а левой, и наши взгляды тут же обратились на его безжизненно повисшую в рукаве укороченную руку.
— Я уже наловчился! — заверил нас Виталий. — Надо только тренировать левую руку. — И он, принявшись расспрашивать Михаэля об учебе, быстро избавился от наших попыток разузнать что-нибудь о его «военной карьере». Он и позже никогда не возвращался к этой теме; когда однажды Борис пристал к нему с этим вопросом, он ответил неожиданно резко:
— Вы должны знать: я не испытывал при этом никакого воодушевления… ничего подобного… не за «русских братьев» и тем более не против «неверных»… нет, нет, все было совсем не так! Только за себя самого… только ради себя…
Если он отстаивал на войне свою свободу, то он ее отстоял и теперь использовал ее исключительно ради учебы. Он усиленно занимался «зубрежкой» вместе со старшеклассником Борисом, стараясь наверстать упущенное, однако и Михаэль помогал ему утолять жажду знаний, хотя сам он не очень-то интересовался учебой. Фигурой Виталий значительно превосходил нашего элегантного, высокого, но немного узкогрудого Михаэля, что чрезвычайно радовало Бориса, который не вышел рост ом; и все же Виталий, несмотря на свое ученичество, казался самым старшим из них.
Мне он отчетливо напоминал прежнего мальчика, по глазам и линии рта я бы узнала его где угодно, особенно по линии рта. Нижняя часть лица у него была некрасивая, чуть выдающаяся вперед, но я заметила, что это зависело не столько от губ, сколько от прямого рисунка челюсти, и когда он говорил или смеялся, были видны клыки; это придавало ему то простодушный, то жестокий вид и не совсем гармонировало с выражением глаз.
Необычная ситуация в стране ограничивала связи братьев с внешним миром и еще теснее сплотила всех троих. Бывшего друга Михаэля, студента, занимавшегося, но слухам, распространением запрещенной литературы, посадили в тюрьму; все подозревали друг друга, и даже самые безобидные встречи вчетвером или впятером не были гарантированы от полицейского вмешательства. Для меня «три брата» наполовину заменили дружеские связи с девочками, которые в старших классах начали распадаться. Манерами и телосложением еще угловатая, робкая от природы девчонка, я умела веселиться только дома и почти не находила общего языка со своими сверстницами — от их пробуждающегося интереса к светской жизни меня вдобавок отделяло мое траурное платье. Тем временем благодаря Виталию я познакомилась с совершенно новой для меня женщиной, Надеждой Ивановной, Надей. Столь несущественную в общении с русскими фамилию я даже не сохранила в памяти. Она родилась в деревне, училась в столице на Высших бестужевских женских курсах, но одновременно организовала частным порядком свои собственные маленькие курсы, на которых она тайно учила нескольких неграмотных фабричных рабочих и домашних слуг. Это нужное народу дело, требовавшее мужества и чреватое тяжелейшими последствиями, с самого начала обеспечило Наде нашу восторженную симпатию. Мы ожидали встретить героическую женщину, а увидели милую маленькую белокурую девушку, невероятно хрупкую и своем поношенном темном платьице, с самыми нежными в мире глазами. Я была уверена, что в ней еще больше робости, чем во мне самой, и сердце мое рванулось навстречу ей. Кроме того, так сложилось, что она вскоре стала поверять мне свои тайны, связанные больше с любовью, чем с политикой: так обычно разговаривают друг с другом две девчонки. Несколько лет назад, будучи еще почти ребенком, она обручилась с сыном попа, их деревенского соседа; ее жених тоже готовился стать священником; вопросы веры не игра-ли тут никакой роли, еще менее — вопросы народного благосостояния: священник мог стать ангелом-хранителем своей деревни, особенно если для этой цели объединялись двое. Но, обзаведясь духовным саном, ее честолюбивый Спиридон устремился мимо ближайшей намеченной цели к высшей клерикальной карьере в рядах «черного» духовенства, которое требовало обета безбрачия, тогда как «белое» духовенство было невозможно без вступления в брак. Необыкновенно способный, он опубликовал свои хорошо обдуманные статьи и тем самым заставил говорить о себе — в Священном Синоде, у «главы» русской церкви, отступив от своих прежних мечтаний в угоду властям предержащим. Надя рассказывала об этом двойном предательстве с поразительным спокойствием, словно речь шла не о ее неверном Спиридоне, а о каком-нибудь человеке с луны. Но личная боль именно потому обретала такое потрясающее звучание, что Надя не отделяла ее от главного в русском человеке — от боли за русское дело. Им одним она жила, ему одному хранила верность — верность за двоих.
Так впервые, тесно общаясь с пей, я услышала о любовной трагедии, которая, без сомнения, мало соответствовала романтическим представлениям моих девических лет. С другой стороны, именно необыкновенная зрелость Надиного рассказа делала его доступным моему незрелому разумению: из таинственною мира человеческих желаний она возвращала меня в мир еще не раскрывшегося девичества. И когда мы вот так сидели друг напротив друга — в комнате моей мамы, которая без всяких перемен превратилась в комнату дочери, сохранив и свою светлую мебель, и цветные чехлы, — в наших черных платьицах мы были почти как сестры: одна исполнена героизма, другая совсем еще ребенок, но обе как две настоящие монашенки.
Однажды, как всегда после обеда, принеся чай и бутерброды в комнату моих работающих «трех братьев», я увидела, что они, против обыкновения, ничего не делают.