По следам сна
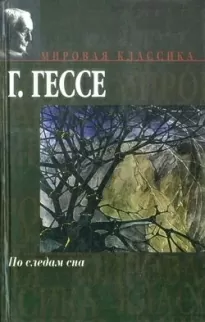
- Автор: Герман Гессе
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "По следам сна"
Герман Гессе
По следам сна
Зарисовка
Жил-был человек, который занимался малопочтенным ремеслом сочинителя развлекательных книг, однако принадлежал к тому небольшому кругу литераторов, которые относились к своей работе с большой серьезностью и пользовались таким же уважением немногих почитателей, какое в былые времена, когда еще существовали поэзия и поэты, обыкновенно оказывалось только подлинным художникам. Этот литератор сочинял разного рода милые вещички, писал романы, рассказы и стихи и при этом изо всех сил старался делать свое дело как можно лучше. Однако ему редко случалось удовлетворить свое честолюбие, так как хотя он и считал себя человеком скромным, но совершал ошибку и самонадеянно сравнивал себя не со своими коллегами и современниками, а с поэтами прошедших эпох, то есть с теми, кто давно уже выдержал испытание временем; снова и снова он с болью замечал, что даже самая лучшая, самая удачная из когда-либо написанных им страниц далеко уступает самой неудачной фразе или самому неудачному стиху истинного художника. Досада его все нарастала, он не получал от своей работы никакого удовлетворения и если и сочинял время от времени какую-нибудь мелочишку, то делал это исключительно ради того, чтобы дать недовольству и душевному оскудению выход и выражение в форме горьких сетований по поводу своего времени и себя самого. Естественно, от этого ничего не менялось к лучшему. Иногда он пытался укрыться в волшебных садах чистой поэзии и воспевал в прекрасных образах красоту, прилежно воздавая должное природе, женщинам, дружбе, и в этих его сочинениях действительно была известная внутренняя музыка, имелось сходство с подлинными произведениями настоящих поэтов, они напоминали об этом, как иногда легкая влюбленность или растроганность напоминают деловому или светскому человеку о его блудной душе.
Однажды на исходе зимы или в преддверии весны этот писатель, который очень хотел быть истинным художником и которого иные даже почитали за такового, снова сидел за своим письменным столом. Он встал по обыкновению поздно, около полудня, проведя половину ночи за чтением, и теперь сидел, уставясь на лист бумаги, где накануне вечером он оборвал последнюю фразу. Там были умные вещи, изложенные гибким, изящным языком, попадались удачные находки, искусные описания, вспыхивали иногда яркие фейерверки мысли, звучало нежное чувство – и все же писателя разочаровали эти строки и страницы, отрешенно сидел он перед тем, что сочинял накануне, полный радости и воодушевления, что еще вчера походило на истинную поэзию, но за ночь снова превратилось в беллетристику, в убогую исписанную бумагу, потраченную без всякой пользы.
И снова в этот немного грустный полуденный час он задумался и вспомнил о том, о чем размышлял уже не раз, – а именно о странном трагикомизме своего положения, о нелепости тайных притязаний на истинную поэзию (ибо истинной поэзии в современной действительности не было и быть не могло), о неразумной ребячливости и тщете своего желания создать благодаря любви к старинной литературе, благодаря добротному образованию и тонкому пониманию подлинной поэзии нечто такое, что могло бы сравняться с этой поэзией или по крайней мере хотя бы сильно походить на нее (ибо он хорошо знал, что с помощью образования и подражания вообще ничего не может быть создано).
Он также почти наверняка знал и понимал, что безнадежное честолюбие и детские иллюзии – ни в коем случае не его личная, только ему присущая черта: каждый человек, даже внешне нормальный, даже кажущийся счастливым и удачливым, лелеет в себе это глупое и безнадежное самообольщение, каждый непрестанно стремится к чему-то недостижимому, и даже самый невзрачный видит себя в мечтах Адонисом, самый безголовый – мудрецом, самый бедный – Крезом. Более того, он почти наверняка знал, что и с высоко почитаемым идеалом «истинной поэзии» не все обстоит благополучно, что Гёте совершенно так же взирал на Гомера или Шекспира, как на нечто недосягаемое, как иной нынешний литератор взирает на Гёте, и что понятие «поэт» – всего лишь благородная абстракция, что Гомер и Шекспир тоже были только литераторами, талантливыми мастерами, которым удалось придать своим произведениям видимость надличного и вечного. Он почти наверняка знал все это – умные, мыслящие люди обязаны знать о таких само собой разумеющихся малоприятных вещах. Он знал или догадывался, что и какая-то часть его собственных писаний, быть может, произведет на читателей будущих времен впечатление «истинной поэзии», что будущие литераторы, быть может, станут с завистью смотреть на него и на его время как на золотой век, когда еще существовали истинные поэты, истинные чувства, настоящие люди, подлинная природа и подлинный дух. Ему было известно, что и осанистый бюргер эпохи бидермейер, и тучный обыватель средневекового города столь же сентиментально противопоставляли свое развращенное, испорченное время простодушному, наивному, счастливому прошлому и взирали на своих дедов и на то, как они жили, с той же смесью зависти и сожаления, с какой нынешние люди склонны рассматривать блаженные времена до изобретения паровой машины.
Все эти мысли были знакомы литератору, все эти истины были ему известны. Он знал: та же игра, то же жадное, благородное и безнадежное стремление к чему-то значительному, вечному, самоценному, побуждавшие его исписывать бумажные листы, побуждали к этому и других – генерала, министра, депутата, элегантную даму, ученика торговца. Все люди тем или иным способом, разумным или неразумным, стремились превзойти себя и добиться невозможного, воодушевляемые тайной мечтой, ослепленные блеском предшественников, тянущиеся к идеалам. Нет лейтенанта, который не мечтал бы выйти в Наполеоны, и нет Наполеона, который время от времени не чувствовал бы себя мартышкой, не воспринимал бы свои успехи как фишки в игре, а свои цели – как иллюзию. Нет человека, который бы не участвовал в этой пляске и в то же время так или иначе не догадывался о тщете своих усилий. Да, были совершенные, были бого-человеки, были Будда и Иисус, был Сократ. Но и они были совершенными и наделенными великой мудростью только одно-единственное мгновение – в момент смерти. Да и смерть их была не чем иным, как постижением конечного смысла, последним, наконец-то удавшимся актом самоотречения. И вполне вероятно, что это свойственно всякой смерти, вполне вероятно, что каждый умирающий – совершенен, ибо он не совершает больше ошибок и ни к чему не стремится, отрекается от себя, хочет стать ничем.
Такого рода мысли, какими бы бесхитростными они ни были, мешают человеку в его делах и стремлениях, мешают вести свою игру. Поэтому работа усердного писателя нисколько не продвинулась за этот час вперед. Не было ни одного слова, достойного быть запечатленным на бумаге, не было мысли, которой действительно стоило бы поделиться с другими. Нет, лучше не переводить бумагу, лучше сохранить листы чистыми.
С этим чувством литератор отложил перо и спрятал бумагу в ящик письменного стола; будь рядом камин, он бросил бы их в огонь. Ситуация была для него не нова, это было уже не раз пережитое им, не раз усмиренное и потому ставшее покладистым отчаяние. Он вымыл руки, надел пальто и шляпу и вышел из дома. Перемена места давно уже стала его испытанным лекарством, он знал, как вредно в таком настроении оставаться долго наедине с исписанными и чистыми листами в одном помещении. Лучше было выйти, подышать воздухом, поупражнять глаза разглядыванием уличных картинок. Навстречу могла попасться красивая женщина, он мог столкнуться с другом, стайка школьников или какая-нибудь необычная выставка в витрине могли натолкнуть его на другие мысли, могло случиться, что на перекрестке его переехал бы автомобиль кого-нибудь из сильных мира сего – газетного магната или богатого булочника; возможностей изменить положение, оказаться в новой ситуации было сколько угодно.
Медленно брел он, вдыхая влажный мартовский воздух, смотрел, как покачиваются кустики подснежников, растущие на унылых газонах перед доходными домами. Его потянуло в парк. Там он сел на освещенную солнцем скамейку под голыми деревьями и в этот теплый час ранней весны отдался игре чувств. Как мягко касался его щек воздух, как ярилось и кипело скрытым жаром солнце, как сурово и робко пахла земля, с какой игривой нежностью топали время от времени по усыпанным гравием дорожкам детские башмачки, как прелестно и сладкогласно пел в голых кустах дрозд. Да, все было прекрасно, весна, солнце, дети и дрозд радовали человека, как и многие тысячи лет до этого, а коли так, то почему бы и сегодня не попытаться сочинить славное стихотворение о весне, какие писались и пятьдесят, и сто лет назад? Но из этого ничего не вышло. Достаточно было вспомнить весеннюю песню Уланда (правда, вместе с музыкой Шуберта, вступительные такты которой были полны сказочным, пронизывающим и возбуждающим запахом весны), чтобы убедиться: подобные восхитительные вещи уже сочинены и современному поэту нет смысла подражать этим бесконечно совершенным, источающим блаженство творениям.
В тот момент, когда мысли поэта снова вознамерились повернуть на старую бесплодную дорогу, он зажмурился и сквозь узкую щелку полуприкрытых век заметил, причем не одними только глазами, легкое колыхание и мерцание, островки света, игру солнечных бликов и пятнистых теней, омытую светом голубизну неба, сверкающий хоровод стремительных отблесков, – так бывает, когда смотришь, зажмурившись, на солнце, но все было как-то по-особенному четко, драгоценно и неповторимо, все благодаря какому-то тайному смыслу превращалось из простого ощущения в душевное переживание. То, что сверкало обильными переливами лучей, двигалось, расплывалось, волновалось и било крыльями, рождалось не только из напора света извне, воспринималось не только глазами, нет, это была сама жизнь, порыв, идущий изнутри, зародившийся в душе, это была сама судьба. Таким видится мир поэтам, «ясновидцам», таким восхитительно-потрясающим представляется он тому, кого коснулся своим крылом Эрос. Исчезла мысль об Уланде, Шуберте и весенней песне, не было больше Уланда, не было поэзии, не было прошлого, все было только вечным мгновением, переживанием, внутренней, глубинной действительностью.
Отдавшись чуду, которое он переживал не раз, но к которому, как ему казалось, давно уже утратил способность, он несколько бесконечных мгновений парил в вечности, ощущая гармонию души и мира, чувствуя, что своим дыханием может управлять облаками, чувствуя, как обжигающим комом ворочается в его груди солнце.
Пока он смотрел перед собой, прикрыв глаза, погрузившись в удивительное переживание и наполовину отключившись от внешнего мира, так как знал, что блаженный поток льется изнутри, недалеко появилось нечто, привлекшее его внимание. Не сразу, постепенно он понял, что это ножки девочки, почти еще ребенка, ножки в башмачках из коричневой кожи; они уверенно и весело, нажимая на каблучки, топали по гравию дорожки. Башмачок из коричневой кожи, по-детски радостное мельканье подошвы, полоска шелкового чулка над нежной лодыжкой о чем-то напомнили писателю, внезапно наполнили его сердце и память каким-то важным переживанием, но он никак не мог припомнить – каким именно. Детский башмачок, детская ножка, детский чулок – какое ему дело до всего этого? Где ключ к загадке? Какой источник в его душе отозвался именно на этот образ среди миллионов других, возлюбил его, вобрал в себя, ощутил его привлекательность, его важность? Он широко открыл глаза, на мгновение увидел всего ребенка, восхитительное дитя, но тут же почувствовал, что это уже не тот образ, который имеет отношение к нему, важен для него; он снова сощурил глаза, оставив только узкую щелочку, сквозь которую были видны убегавшие ножки. Затем он плотно закрыл глаза и задумался над увиденным, чувствуя, что тут что-то есть, но не зная, что именно, терзаемый тщетными усилиями, осчастливленный тем, как глубоко всколыхнул его душу этот образ. Где-то, когда-то он уже видел эту ножку в коричневом башмачке, и она произвела на него сильное впечатление. Когда это было? О, должно быть, очень давно, в незапамятные времена – из таких далей, из такой немыслимой глубины смотрел на него этот образ, погруженный в бездонный колодец его памяти. Быть может, он носил его в себе, пока не обнаружил сегодня, с самого раннего детства, с той баснословной поры, воспоминания о которой расплылись и потеряли выразительность, их было трудно вызвать, и все же они были красочнее, нежнее, полнее всех позднейших наслоений памяти. Долго сидел он с закрытыми глазами и покачивал головой, в памяти мелькала то одна цепочка воспоминаний, то другая, но ни в одной не было ребенка, не было коричневого детского башмачка. Нет, ничего не вспоминалось, не имело смысла продолжать поиски. Как и всякий, кто роется в памяти, он никак не мог обнаружить то, что было совсем рядом, так как полагал, что предмет его поисков лежит где-то очень далеко, и потому видел все в искаженном свете. Но в тот самый момент, когда он отказался от своих попыток и уже готов был отбросить и забыть маленькое смешное переживание, родившееся из солнечных бликов, все повернулось по-иному и детский башмачок занял подобающее ему место. С глубоким вздохом писатель вдруг понял, что в его переполненном образами внутреннем мире детский башмачок находился не глубоко внизу, относился не к давним сокровищам, а был совершенно свежим и новым впечатлением. Ему показалось, что с этим ребенком он имел дело совсем недавно, что совсем недавно видел этот убегавший башмачок.





