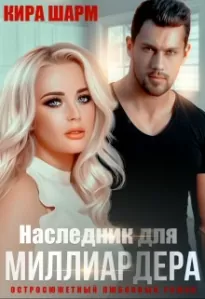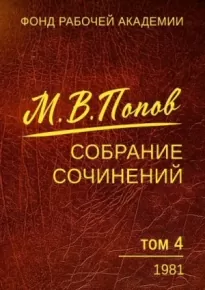Собрание сочинений. Том 2. Лелия. Леоне Леони. Ускок

- Автор: Жорж Санд
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 1971
Читать книгу "Собрание сочинений. Том 2. Лелия. Леоне Леони. Ускок"
— Клянусь святой матерью нашей, инквизицией, ты меня просто пугаешь! Неужто у тебя иногда бывают ночные дела во Дворце дожей? Или служитель святой инквизиции приглашает тебя порой отужинать с заплечным мастером? Ты что — участвуешь в заговоре или в секте какой-нибудь или ходишь по временам для удовольствия смотреть, как с людей сдирают кожу? Если ты в чем-то таком заподозрен, так говори прямо, и мы распрощаемся. Ибо я не люблю ни политики, ни схоластики, а красные чулки палача имеют очень уж резкий оттенок — он мне режет глаза.
— Ты дурак, — ответил Орио. — Тот палач, о котором ты говоришь, просто медоточивый умник, который сочиняет пресные сонеты. Есть другой, лучше знающий свое дело, он еще живее сдерет с тебя кожу. Это скука. Ты с ней знаком?
— А, ну отлично; это, значит, просто метафора. Ты нынче утром в мрачном настроении — последствие твоего нервного припадка. Выпил бы лучше, чтобы рассеяться, добрый стакан хиросского вина.
— Вино стало безвкусно, Дзульяни, и никакого действия не оказывает. Кровь застыла в жилах виноградной лозы, а земля стала просто бесплодной грязью, не способной родить даже какие-нибудь яды.
— Ты говоришь о земле как истый венецианец. Земля — это груда обтесанных камней, на которой произрастают люди и устрицы.
— И пустые болтуны, — подхватил Орио, останавливаясь. — Мне хочется умертвить тебя, Дзульяни.
— А зачем? — весело осведомился тот, даже и не подозревая, насколько Соранцо, снедаемый кровожадным бешенством, способен поддаться порыву ярости.
— Черт возьми! — ответил Орио. — Да хотя бы для того, чтобы посмотреть, приятно ли убить человека просто так, безо всякой корысти.
— Ну так случай неподходящий, — в тон ему подхватил Дзульяни, — у меня карманы набиты золотом.
— Оно мое! — сказал Соранцо.
— Не знаю. Ты свою часть выбросил в каналетто, и сейчас мы с тобой сосчитаемся. Может еще оказаться, что ты мне должен. Так что не убивай меня, не то получится убийство ради ограбления, а тут ничего нового нет.
— Горе вам, синьор, если вы желаете меня оскорбить! — вскричал Орио, в мгновенном порыве ярости хватая приятеля за горло.
Ему и в голову не пришло, что Дзульяни говорил просто так, не вкладывая в свои слова никакого намека. Мучимый угрызениями совести, он повсюду чуял опасность или обиду и в своем душевном смятении постоянно рисковал выдать себя из страха перед другими.
— Не жми так сильно, — спокойно сказал Дзульяни, принимавший все это за шутку. — Я-то еще не получил отвращения к вину и вовсе не хочу, чтобы мне было трудно глотать.
— Какое унылое утро! — произнес Орио, равнодушно разжимая руки; он так часто боялся разоблачения, что уже не радовался, оказываясь в безопасности, и даже не замечал этого. — Солнце стало таким же бледным, как луна. С некоторых пор в Италии уже не бывает тепло.
— В прошлом году ты говорил то же самое о Греции.
— Но посмотри, какая белесая и некрасивая заря! Небо желтое, как желчь.
— Ну и что ж! Хоть какое-то разнообразие по сравнению с кроваво-красными лунами, которые ты поносил в Корфу. Ты никогда ничем не доволен. И солнце и луна у тебя в немилости. Чему удивляться, раз ты охладел и к игре? Послушай, скажи по правде — неужто ты ее разлюбил?
— Ты разве не замечаешь, что с некоторых пор я беспрерывно выигрываю?
— Это-то тебе и противно? Давай поменяемся! Я только и делаю, что проигрываю, и мне это чертовски надоело.
— Игрок, который совсем не проигрывает, и пьющий человек, который не пьянеет, одно и то же.
— Орио, хочешь знать правду? Ты спятил. Ты запустил свою болезнь. Надо бы тебе кровь пустить.
— Я больше не люблю кровь, — как-то озабоченно ответил Орио.
— Да я и не говорю, чтоб ты ее пил! — с раздражением возразил Дзульяни.
В этот момент они дошли до палаццо Соранцо. Гондолы их находились уже там. Дзульяни решил проводить Орио до постели; он считал, что приятель в жару, и боялся, чтоб тот не упал на лестнице.
— Оставь меня, убирайся! — сказал Орио на пороге своей спальни. — Ты мне надоел.
— Взаимно, — ответил Дзульяни, входя все же в комнату. — Но я должен избавиться от этого золота, и нам надо произвести раздел.
— Бери все и оставь меня! — сказал Соранцо. — Не хочу я и смотреть на золото, ненавижу его. Не понимаю даже, на что оно годится.
— Вот тебе на! Да на все, что угодно! — вскричал Дзульяни.
— Если бы можно было купить за деньги хотя бы сон! — мрачно произнес Орио.
И, взяв товарища за руку, он отвел его в угол комнаты, где Наам, завернувшись в белый шерстяной плащ, лежала на шкуре пантеры и спала таким глубоким сном, что не проснулась и при появлении своего господина.
— Смотри! — сказал Орио Дзульяни.
— А кто это? — спросил тот. — Твой египетский паж? Будь он женщиной, я бы его у тебя похитил. А так — что мне с ним делать? По-христиански он не говорит, и, проживи я хоть тысячу лет, я бы все равно не понял, что он, басурман, лопочет.
— Посмотри, скотина несчастная! — сказал Орио. Посмотри на этот гладкий лоб, спокойный рот, глаза, мирно затененные веками! Посмотри, что такое сон, что такое счастье!
— Принимай опиум, и тоже заснешь, — сказал Дзульяни.
— Зря стал бы его пить, — возразил Орио. — Знаешь ты, что дает этому мальчику возможность так глубоко спать? То, что он никогда не обладал ни единой золотой монетой.
— Какие ты сегодня заводишь нудные и наставительные речи, — сказал, зевая, Дзульяни. — Ладно, будешь считать? Нет? Тогда я стану считать один, и не пеняй, даже если я обнаружу, что всю свою часть выигрыша ты выбросил под мост Баркарол.
Орио пожал плечами.
Дзульяни сосчитал, и для Орио выделилась еще очень значительная сумма, которую молодой человек и выдал приятелю самым щепетильным образом. Затем он удалился, пожелав Орио отдохнуть и посоветовав прибегнуть к кровопусканию. Орио ничего не ответил, а, оставшись один, собрал все цехины, раскиданные по столу, и ногой затолкал их под ковер, чтобы не видеть. Действительно, один вид золота вызывал у него возраставшее с каждым днем физическое отвращение, которое, конечно, было в нем признаком одного из ужасных душевных заболеваний, принимающих некое вещественное обличье в своих проявлениях. Не одни лишь золотые монеты вызывали у него это болезненное отвращение. О не мог видеть блеска стального клинка или женских драгоценностей, без того чтобы перед ним не возникали зримо, если можно так выразиться, зверства, совершенные им, когда он был ускоком. Он скрывал свои муки и даже совсем заглушал их, когда необходимость действовать подхлестывала его скудеющую кровь. Вместе с Морозини он провел новую кампанию, ту славную экспедицию, когда венецианский флот водрузил свое победоносное знамя над Пиреем. Понимая, что все уважение, которым он может пользоваться в дальнейшей своей жизни, зависит от его поведения в этих обстоятельствах, Орио совершал чудеса доблести. Он полностью смыл позор, которым запятнал себя как губернатор Сан-Сильвио, и принудил всю армию говорить, что если он и был плохим администратором, то, во всяком случае, это не мешало ему быть отличным командиром и храбрым воином.
Сделав это последнее усилие, Орио, достигший успеха во всех своих предприятиях, всеми прославляемый, любимый адмиралом как родной сын, Орио, избавившийся от всех своих врагов и богатый сверх всяких надежд, возвратился на родину и решил впредь не покидать ее, чтобы полностью наслаждаться плодами своих ужасных дел. Но тут-то правосудие божеское и покарало его, лишив всей былой силы характера. Оказавшись на высотах своего нечестивого благополучия, он вдруг как-то оглянулся на самого себя, и мучительная тоска овладела им именно тогда, когда он намеревался жить так, как мечтал. Он совершил все, на что способны были дерзновенность и злостность его натуры, он стал внушать самому себе, что он конченый человек и что, добившись успеха в своих безумных замыслах, он может увидеть лишь закат своей звезды. Все было кончено, он ничем не мог наслаждаться. Могущество денег, жизнь в безудержном распутстве, отсутствие забот, о чем он так мечтал, превосходство в роскоши и мотовстве надо всеми людьми его круга — вся эта позорная и бесстыдная суета, ради которой он принес гекатомбу, способную насытить самый ад, обнаружилась перед ним во всей своей тщете, и в тот миг, когда для него прошли забава и опьянение, глаза его раскрылись и он увидел весь ужас своих преступлений. Они встали перед ним во весь свой рост и показались ему отвратительными — разумеется, не с точки зрения нравственности и чести, а с точки зрения разума и личной выгоды. Ибо нравственность Орио понимал как совокупность условных правил взаимного уважения, которые выработал для робких людей их собственный страх друг перед другом. Честью же он считал глупое тщеславие людей, которые не удовлетворены тем, что в их доблести верят другие, и хотели бы сами в них верить. Наконец, под личной выгодой — своей личной выгодой, конечно, — он разумел возможность в наибольшей степени пользоваться всеми известными ему благами: независимостью для себя, властью над другими, торжеством своей дерзости, благополучия и ловкости надо всеми робкими и завистливыми душонками, из которых, по его мнению, состоял весь мир.
Легко убедиться, что этот человек под жизненными благами подразумевал только те, которые дают людям возможность казаться, и поскольку в Италии принят такой способ выражения, мы добавим, что те внутренние радости, благодаря которым человек может чем-то быть, были ему совершенно неведомы. Как все люди, наделенные этим особым темпераментом, он и не подозревал о существовании того внутреннего удовлетворения, которое дают благородным душам даже в величайших бедствиях и жесточайшем угнетении их чистая совесть, здравый рассудок и добрые влечения. Он полагал, что общество может обеспечить душевный мир тому, кто его обманывает, чтобы лучше использовать. Он не знал, что общество бессильно отнять этот душевный мир у того, кто бросает ему вызов, чтобы ему же лучше послужить.
Но Орио понес кару именно в том, ради чего грешил. Внешний мир, которому он все заклал в жертву, рухнул вокруг него, и все вещественные блага, которыми он, казалось, уже обладал, рассеялись, как сонные грезы. В нем заложено было некое слишком явное противоречие. Презрение к другим, лежавшее в основе его мироощущения, не могло научить его уважать самого себя, — ведь это самоуважение должно было основываться на уважении к нему других, которое он всегда мог легко утратить. Так он и вертелся в заколдованном кругу: потирал себе руки от удовлетворения, что провел всех, и тотчас же вслед за тем бледнел от страха, что повстречает обвинителей.
Именно этот страх, что все содеянное им обнаружится, лишал его ощущения безопасности, отравлял малейшую радость и действовал на него так же, как угрызения совести. Раскаяние в человеке всегда предполагает, что до преступления он был честным. Орио, которому всегда было чуждо чувство справедливости, не ведал раскаяния. Так как он ни к кому не был по-настоящему привязан, не имел он и никаких сожалений. Но у него были неистовые страсти, ненасытные потребности, а между тем он видел, что все его наслаждения весьма плохо обеспечены, ибо, порвись одна только нить в сети, которой он оплел свой мир, и вся сеть мгновенно распустится. И вот ему уже казалось, что вся толпа, которую он так ненавидел, так подавлял своей роскошью, так унижал презрением, так осмеивал, так обыгрывал, так обкрадывал, сбрасывает это наваждение, поднимает голову и, встав перед ним словно гидра, платит ему обидой за обиду, презрением за презрение.