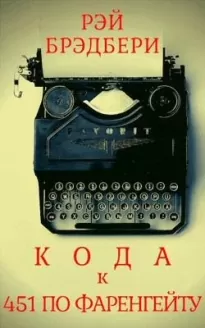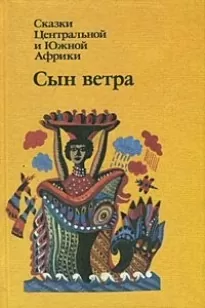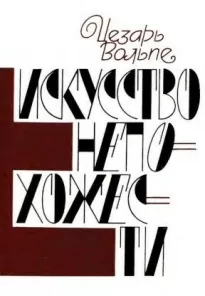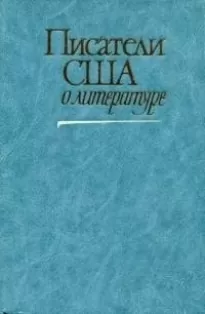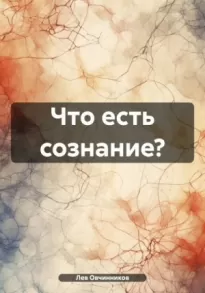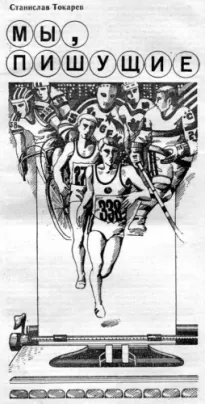Легенды и мифы о Пушкине

- Автор: Мария Виролайнен
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Легенды и мифы о Пушкине"
(Литературная репутация Пушкина и эволюция представлений о славе в 1820–1830-е годы)
1830-е годы были во многом переломной эпохой в развитии русской литературы. Отвергались многие старые ценности и утверждались новые, пересматривались прежние литературные репутации. Не случайно в эту переломную эпоху интенсивнее, чем когда-либо, задумывались над факторами, определяющими читательский успех, славу писателя. Ведь представления о том, что такое литературная слава, каковы механизмы ее возникновения и распространения[266], — это немаловажная составляющая представлений о месте писателя в культуре и в обществе в целом, и исследование того, как эволюционировали представления о славе в ту или иную эпоху, могло бы оказаться любопытным во многих отношениях.
В литературной полемике тех лет нередко возникали своего рода легенды о причинах славы того или иного писателя. Так, у Н. В. Гоголя в «Театральном разъезде после представления новой комедии» один персонаж, обозначенный как «литератор», следующим образом рассуждает о только что кончившейся комедии, в которой угадывается «Ревизор»: «…да ведь это все вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. <…> Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, и потом вслед за ними и вся Россия стала кричать»[267]. В этом монологе по-гоголевски гротескно преломилась одна из своеобразных легенд о Пушкине, пущенных в ход враждебной поэту критикой 1830-х годов. Отчасти эта легенда о славе, созданной приятелями, была перенесена и на Гоголя, который воспринимался петербургскими журналистами во многом как писатель пушкинского круга[268].
Разоблачать эту легенду сегодня уже ни к чему: время расставило все по своим местам. Но стоит повнимательнее присмотреться к ее глубинному смыслу, связанному, в конечном итоге, с той сменой представлений о писателе и его месте в обществе, которая происходила в русской культуре в 1820–1830-е годы. Для этого проследим сначала, как и кем создавалась легенда, пародированная Гоголем в «Театральном разъезде…».
Чрезвычайно часто встречаются обвинения такого рода в разгоревшейся в 1830 г. полемике о «литературной аристократии» (так именовали пушкинский круг, сплотившийся около «Литературной газеты»). Например, Булгарин в «Северной пчеле» обвинял П. А. Вяземского в том, что он пишет «только панегирики своим друзьям и филиппики противу несогласных с ним во мнениях»[269]. В «Сыне отечества и Северном архиве» высмеивались приятели-литераторы Ряпушкин, П. Коврыжкин и барон Шнапс фон Габенихтс, в которых читатели легко угадывали Пушкина, Вяземского и Дельвига[270]. Другой противник «Литературной газеты», М. А. Бестужев-Рюмин, изобразил на страницах «Северного Меркурия» некую Аделаиду Антоновну Габенихтсину, владелицу нового магазина (под которым подразумевалась «Литературная газета»): «Если теперь поступает в продажу что-нибудь из рукоделья ее приятельниц, то Аделаида Антоновна так и рассыпается мелким бесом и не знает, как бы лучше расхвалить мастерство дорогой кумушки»[271]. Подобные выпады против пушкинского круга нередко встречаются и в «Московском телеграфе»[272].
Упрек в расхваливании друг друга предъявляли еще писателям-«арзамасцам». Так, в комедия А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент» (1817) литератор Беневольский мечтает: «Тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными — в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно!»[273]
Представление о приятелях, расхваливающих друг друга, было самым расхожим и в борьбе «Благонамеренного» с так называемым союзом поэтов (А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский, B. К. Кюхельбекер). Об их «самохвальстве» и «кругохвальстве» говорил на страницах «Благонамеренного» Б. М. Федоров в своих статьях и пародийных стихотворениях[274]. Аналогичные обвинения выдвигал против «союза поэтов» Булгарин в статье «Литературные призраки», помещенной в «Литературных листках»[275].
Применяемая к «литературной аристократии» памфлетная кличка «знаменитые друзья» заставляет вспомнить о литературных полемиках десятилетней давности, когда часто шло в ход это выражение, заимствованное журналистами из заметки А. Ф. Воейкова в № 13 «Сына отечества» за 1821 г.[276] Особенно часто такая кличка использовалась в статьях, направленных против Вяземского[277]. Сочинители этих статей обычно старались подчеркнуть, что, нападая на «авторов, которые обвились, как плющ, около великих талантов и под сенью их наслаждаются славою, ничем не заслуженною»[278], дарование ведущего поэта «новой школы» — Жуковского — они почитают. Но нередко за этими уверениями было ощутимо неприятие «школы Жуковского» в целом.
В 1829 г. Н. И. Надеждин в статье о «Полтаве» применил к Пушкину слова из басни И. А. Крылова, в которой говорится о муравье, воображавшем себя великим, а на самом деле дивившем своими «подвигами» лишь свой муравейник[279]. Подобные толки возбудил и вышедший в 1829 г. сборник стихотворений Дельвига[280].
В 1830 г. пушкинский круг, включавший в себя и «арзамасцев», и членов «союза поэтов», объединился в «Литературной газете». Вполне естественно, что прежние упреки в «кругохвальстве» с удвоенной силой возобновляются врагами нового издания. Но в нападках начала 1830-х годов появляется и нечто новое по сравнению с первой половиной 1820-х годов.
Конечно, сам по себе упрек в том, что какого-либо писателя не в меру расхвалили его друзья и сторонники, не имеет в себе ничего особенно характерного: этот упрек вечен. Однако к началу 1830-х годов во многом изменились сами представления русских критиков о норме отношений между писателем и публикой. Причину этого следует искать в постепенной демократизации литературы, во вхождении в русскую культуру массового читателя. Период салонного и кружкового бытования литературы кончается, и в свои права вступают законы книжного рынка[281]. В этих условиях утверждения журналистов о том, что слава Пушкина была сильно преувеличена его друзьями и потому нуждается в пересмотре, становятся одним из моментов борьбы против традиций «салонной», «аристократической» литературы вообще[282]. Демократизация литературы приводит к тому, что меняются сами представления о месте писателя в обществе — и не в последнюю очередь представления о том, что такое литературная слава, как и кем должна она создаваться.
Прежде отношения между писателем и его читателями строились в представлении критиков иерархически. Писатель должен был ориентироваться на суд немногих беспристрастных знатоков, обладающих просвещенным вкусом. «Ищи людей, которые способнее других ценить твои работы: их суд есть голос современников и приговор потомства. Имей друзей, согласных с тобою в образе чувства, в желании действовать и в выборе цели», — советовал писателям В. А. Жуковский в 1808 г. и продолжал: «Непристрастная заслуженная похвала избранных, которых великое мнение управляет общим и может его заменить, вот слава истинная, продолжительная, достойная искания!»[283] Суждение знатоков противопоставляется суждению публики, врожденный вкус которой еще не отшлифован воспитанием. «Публика, милостивый государь, дама: она любит, чтобы ее водили под руку. Имеет вкус, но не отягощает его трудом сравнивать, избирать и потому часто бывает эхом любимого журнала. Сим расположением публики должно пользоваться, направляя его ко всему изящному посредством благоразумной критики», — писал в 1820 г. А. А. Бестужев[284]. Толпа склонна к предубеждениям, затмевающим ясность разума и вкуса. Жуковский в цитированной выше статье говорит, что рукоплескания толпы «повинуются внезапному побуждению», и называет некоторые причины этих «случайных похвал»: «…один хвалит из дружбы, другой из жалости, третий из противоречия, четвертый в надежде подкупить, пятый от равнодушия <…> шестой из зависти, желая оскорбить или унизить соперника»[285]. Известность, основанная на суждениях толпы, — это лишь мнимая слава, или мода. Она преходяща, как преходящи по природе своей сами человеческие эмоции и заблуждения: «Слава, которой человек обязан заблуждению, есть иллюзия славы, которая разрушается при первых же лучах разума и истины»[286]. Истинная же слава основывается на суждениях ценителей, обладающих образованным вкусом. Она непреходяща, и время лишь способствует ее утверждению: «Слава как река, которая делается все более многоводной по мере удаления от истоков <…> и как родники, которые бьют все сильнее по мере того, как проходят века»[287].
Следует подчеркнуть, что ориентация на поэзию «для немногих» не являлась собственно элитарной или эстетской. Ведь она совсем не исключала мысли о широкой славе, время для которой настанет тогда, когда уйдут в прошлое сиюминутные заблуждения публики.
Правда, в первой половине 1820-х годов критики-декабристы (и не только они) упрекали поэтов школы Жуковского в отсутствии общезначимого содержания, высоких гражданских идей и требовали от литературы «непритворного изложения чувств высоких и к добру увлекающих»[288]. Однако и самому Жуковскому вовсе не было чуждо убеждение в том, что поэзия должна пробуждать в человеке высокие чувства (конечно, не в декабристском понимании). В цитированной выше статье Жуковский говорит, что писатель, увлекшийся минутным успехом и забывший о требованиях истинного вкуса, «никогда не достигнет благородной цели писателя — пользы, распространения идей, благодетельных для человечества, наслаждений, совершенствующих душу»[289].
С другой стороны, самим декабристам не чужд критерий «образованного вкуса», а также представление о руководящей роли «ценителей» в восприятии литературных произведений массой «публики» (это доказывают приведенные выше слова из статьи Бестужева). Таким образом, в принципе схема соотношений между писателем и публикой здесь остается такой же, как у Жуковского.
Не нарушают этой иерархической схемы и те критики, которые нападают на «кругохвальство» в среде «знаменитых» и в «союзе поэтов». Они по-прежнему апеллируют к просвещенному вкусу как к высшему авторитету в литературных вопросах. «Дружеские похвалы» вызывают их протест именно потому, что они якобы основываются на личных привязанностях, заставляющих пренебрегать беспристрастностью образованного вкуса.
К 1830-м годам сама иерархичность прежней схемы соотношений между писателем, ценителями и публикой ставится под сомнение. Кс. А. Полевой замечал в 1829 г., что «в русской публике давно слышны жалобы на безотчетные похвалы сочинениям Пушкина»[290]. О том, что публика восстает против магии имен и хочет произвести определенную переоценку ценностей, свидетельствует хотя бы напечатанная в том же году в «Дамском журнале» эпиграмма по поводу издания Баратынским и Пушкиным «Бала» и «Графа Нулина»:
Два друга, сообщась, две повести издали;
Точили балы в них и все нули писали;
Но слава добрая об авторах прошла,
И книжка вдруг раскуплена была.
Ах! часто вздор плетут известные нам лицы,
И часто к их нулям мы ставим единицы…[291]