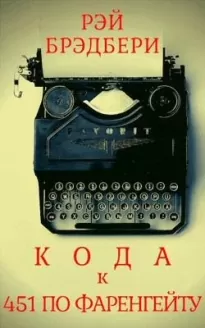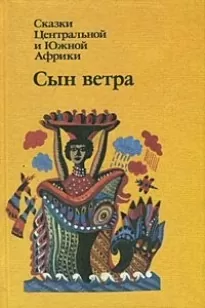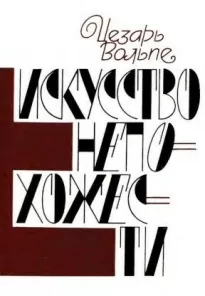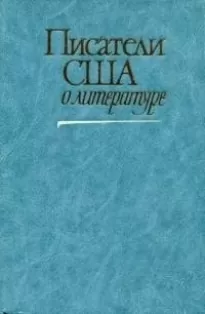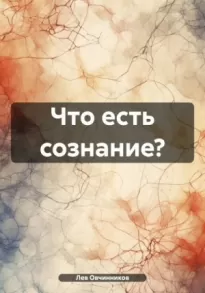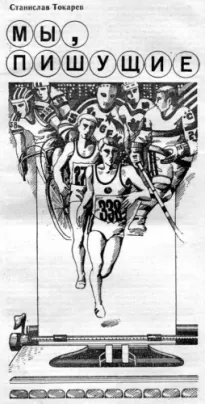Легенды и мифы о Пушкине

- Автор: Мария Виролайнен
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Легенды и мифы о Пушкине"
Итак, вот эти этапы. Первый — детство, период дотворческий, предтворческий. Второй — период поэзии, он продолжается до 1825 г., когда совершен третий принципиальный шаг: создание «Бориса Годунова», выход к драматургии. 1830 г. — следующий рубеж: написаны «Повести Белкина», освоена область прозы. В 1833 г. «Историей Пугачева» открывается поприще Пушкина-историка. Выход «Современника» в 1836 г. знаменует начало общественной деятельности Пушкина-журналиста. Последний, седьмой, этап, как и первый, лежит за пределами собственно творчества: он связан с событиями дуэльной истории 1836–1837 гг., когда Пушкин становится культурным героем в прямом смысле этого слова.
Дитя — поэт — драматург — прозаик — историк — общественный деятель — культурный герой[625].
Так выглядит путь, пройденный Пушкиным, и мы постараемся показать, что по отношению к секуляризованной культуре этот путь действительно является универсалией.
В работе «История и будущность теократии», имеющей знаменательный подзаголовок «Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни», Владимир Соловьев указал на три верховные власти, оформлением которых завершилось развитие иудейской теократии: это власть первосвященника, царя и пророка. По Соловьеву, с наступлением христианской эры эти три власти соединяются во Христе, но затем, с развитием христианской культуры, они вновь разделяются: «Каким образом и на каком основании обособилась в христианстве власть священников, обладающих по преимуществу ключами прошедшего, — усвоителей совершенной жертвы, хранителей закона Божия, свидетелей предания, оракулов „света и непорочности“; как затем привзошла в Церковь власть христианских царей, обладающих преимущественно ключами настоящего, долженствующих деятельно проводить христианские начала в действительную жизнь народов; как, наконец, появились особые ревнители совершенной жизни, абсолютного идеала — пророки, обладатели ключами будущего, сначала в образе святых подвижников, а потом и в других формах; — обо всем этом мы будем говорить во втором томе этого сочинения — в истории новозаветной»[626]. Однако второй том так и не был написан, и триада, выстроенная Соловьевым, подверглась дальнейшему культурологическому осмыслению уже помимо него. Вяч. Иванов указал на соборное взаимодействие сфер священства, державства и пророчества, связанное с взаимодействием мира и хора, пророчественной общины, орхестры[627]. Несколько переинтерпретируя предложенное Ивановым понимание орхестры, можно увидеть в ней особую, четвертую, власть: народ. И если продолжить предложенную Соловьевым соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим, то эта четвертая власть окажется обладающей «ключами всегдашнего» — особой консервативной силой, охраняющей норму как то, что должно быть всегда.
Соловьев указывал, что в теократическом государстве иерархически верховное место принадлежало пророку. Триада, следовательно, выглядела следующим образом:
Эта иерархия менялась по мере удаления государства от теократической идеи. Понятно, что с наступлением секуляризованной эпохи она имела уже принципиально иной вид. Изменилось не только иерархическое соотношение, но и сущность самих позиций.
В 1985 г. А. М. Панченко был сделан доклад «Царь — Священник — Поэт», в котором осмыслялось значение этой триады в русских условиях[628]. В досекуляризованной Руси, трактующей идею Третьего Рима прежде всего в теократическом смысле, на вершине государственной власти стоит не одна, а две фигуры: царь и патриарх (= первосвященник). Процесс секуляризации однозначно вытесняет священническую власть на второстепенное место. В пушкинскую эпоху оформляется другая содержательная трансформация: культурный архетип пророка берет на себя поэт. Теперь триада выглядит так:
В культурной иерархии поэт начинает играть роль, которую некогда исполнял пророк, а позже первосвященник. По отношению к царю поэт, таким образом, оказывается и его «парой», и его «конкурентом».
Если к этим трем ключевым позициям добавить четвертую, подсказанную построением Вяч. Иванова, получится символическая культурологическая схема, охватывающая все ведущие силы секуляризованной русской реальности, — схема, в которой будет виден и ее общеевропейский, общехристианский генезис. Царь здесь будет обозначать фигуру, определяющую норматив государственной, политической, общественной жизни в ее настоящем; поэт — фигуру художника (в широком смысле слова), создающего то, чего раньше не было, ориентированного на новизну, т. е. на настоящее и будущее; священник — фигуру, ориентированную на настоящее через прошлое, охраняющую традицию и память; народ — всех тех, ради кого и с помощью кого осуществляются направляющие и регламентирующие функции трех первых фигур.
Изобразим эту схему графически:
Как видим, здесь возможно еще одно, центральное, место, о значении которого будет сказано чуть позже.
Жизненный (он же творческий) путь Пушкина является универсалией потому, что он проходит через все эти ключевые позиции.
Детство — это период, когда он еще слит с общим, простым, непосредственным и в этом смысле народным бытием.
Как поэт он вступает в ту самую позицию, о которой говорил А. М. Панченко.
Как драматург он полностью реализует «протеическое» начало, с помощью которого воплощаются все четыре «столпа» русской жизни[629], — и в этом отношении оказывается в центральной позиции, в которой «фокусируются» все остальные.
Как прозаик Пушкин уже в новом качестве возвращается в позицию «народного»: его «Повести Белкина», написанные «в паре» с маленькими трагедиями, в противовес последним отстаивают (и отстраивают) эпическое пространство с заданными в нем нормами простого общежития.
Как историк Пушкин выполняет функцию, генетически восходящую к священству (вспомним Пимена).
Как журналист и общественный деятель он оказывается в прямой конкуренции с царем (отношения с которым в этот период не случайно обостряются до чрезвычайности, и отнюдь не по частным причинам), ибо берет на себя функции формирования общественного сознания и общественной жизни.
И наконец, дуэльная история, прямое действование не по первому яростному импульсу, но продуманное и выверенное, осуществленное с полной ответственностью за каждый шаг[630]. Волею судеб это финал жизни, итог пути, по завершении которого Пушкин снова оказывается на позиции, обозначенной в нашей схеме как центральная, но теперь это позиция культурного героя.
Пора подытожить сказанное и попытаться определить, в каком, собственно, смысле можно говорить о Пушкине как о культурном герое.
Мистический смысл подсказывается мыслью того же Владимира Соловьева: «Триединый способ богочеловеческого соединения, заложенный в первого Адама и вполне раскрывшийся во втором (т. е. во Христе. — М. В.), заключает в себе начало трех властей, образующих в своем неслиянном и нераздельном соединении истинную теократию»[631]. Но этот смысл говорит не о порождении мифа — он свидетельствует лишь о том самом воспроизведении универсалии, о котором было сказано выше. Мы не найдем в нем перекрестья мифа и истории, которое явилось бы ответом на запрос Нового времени. Этот смысл может канонизировать Пушкина, но отнюдь не объяснить, почему он — «первый». Ибо следование Христу — норма православной жизни, а не ее новость.
Поищем поэтому ответа, лежащего в иной плоскости: в плоскости исторической.
Процесс секуляризации в России начался с раскола и завершился петровскими реформами. Надвое раскололась тогда не только Церковь: раскололся сам русский культурный космос.
Никон провел свою реформу, когда в России только что победил теократический и соборный принцип, отстаиваемый боголюбцами, ратовавшими за воцерковление всей полноты русской жизни. Реформа, поставившая под сомнение церковный обряд, вырывала важнейшее звено из единой связи, осуществлявшей сквозную включенность жизни в канон. Ускользая из-под канона, бытие неизбежно теряет свою целостность. Единожды пренебрегший соборной волей, Никон уже через несколько лет лишился того места в государственной иерархии, которое обеспечивал ему теократический принцип при вступлении на патриарший престол. А еще полвека спустя не только патриаршество оказалось упраздненным, но и сама русская соборность — не в административном, а в духовном ее смысле — стала утопией, ибо культура утратила единую скрепу, сама разделилась на «верхнюю» и «нижнюю», «церковную» и «светскую». И этот раскол культуры превзошел по своим последствиям послуживший ему основанием раскол церкви.
«Верхняя» и «нижняя», «церковная» и «светская» культура — каждая из них тяготеет к одному из полюсов, обозначенных на нашей символической схеме:
Каждая из позиций теперь обособилась, единой нормы не стало.
Единой скрепой своего жизненного сюжета, единой скрепой своего жизненного пути Пушкин воссоединил их заново — но уже в совершенно новом качестве. Пушкинский путь возвращает русской культуре утраченное единство, но возвращает не в результате движения вспять, а через фундаментальную историческую инверсию. Вот суть этой инверсии. В досекуляризованной Руси личность (любая личность, будь то простолюдин или царь, священник или мирянин) обымается началом родовым и соборным, существует внутри него. В результате секуляризации личность отпадает от родового и соборного, противопоставляя ему индивидуалистическую тенденцию. Пушкинский путь указывает, что личность, прошедшая через искус индивидуализма, способна восстановить родовой и соборный принцип — но теперь уже внутри себя. И если теократия обеспечивала единство культуры через церковность (и церковную соборность), а следовательно, через священство, то отныне ответственность за «исправление путей» русской жизни берет на себя литература, словесность, ибо личностью, прокладывающей путь к новой соборности, становится поэт. Именно после Пушкина возникает центральная идея классической русской литературы: идея мессианского назначения писательства.
Впрочем, эта идея в знакомом нам выражении, казалось бы, восходит отнюдь не к Пушкину, а к Гоголю. Это он с чисто религиозным пафосом провозгласил идею возделывания действительности, это он настоятельно говорил о «раздробленности» русской жизни, которую необходимо привести к единству. Заметим, что, боготворя и превознося Пушкина, Гоголь именно в этой сфере подчеркивал свой собственный приоритет, специально настаивая, что «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше». «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел.» «…нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина»[632]. Что это было? Лукавство? Попытка присвоить себе чужие свершения? То самое, знаменитое: «…однажды Гоголь переоделся Пушкиным»? Думается, что нет.