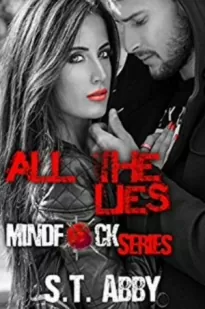Батискаф
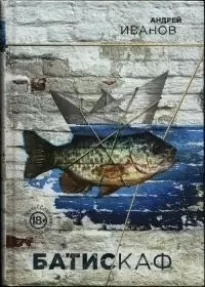
- Автор: Андрей Иванов
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Батискаф"
Думаю, что Томас воровством занимался именно по этой причине: он жил очень замкнуто, и когда ему доводилось оказаться у кого-нибудь в гостях, ему необходимо было что-нибудь стибрить, чтобы иметь вещественное подтверждение того, что он покидал свою клетку, как и я, через чердачное окно, а также постоянно иметь под рукой напоминание о внешнем мире. У него была тяга обнажаться, это открылось очень рано, почти сразу, он завел меня за эстонскую школу, за большие кусты, где стоял заброшенный ангар хозяйственной части, в который мы залезали курить, он завлек меня за этот сарай и сказал: «Давай снимать штаны!» — Я не успел ничего ответить, он снял штаны и стал плясать, потряхивать членом, крутить задом, кружиться. Танцевал он как-то жеманно, как девочка, подумалось мне. Он так странно танцевал, даже когда был в штанах, приходил ко мне, мы ставили пластинку, и он начинал танцевать, хотя мог просто сидеть, как я, и слушать, но ему нравилось кривляться, крутиться и на себя в зеркало поглядывать. Томас врал, что научился танцевать в «Артеке», и говорил, будто там были немецкие дети — главное его изобретение (он их придумал затем, чтобы не слишком одиноким себя чувствовать).
Он был симпатичный малый: зеленые глаза, высокий, тощенький, с длинным арийским носом, — но было в нем что-то гаденькое. Даже если бы он засунул себе в рот дуло пистолета, это не спасло бы его, хотя губы у него были тонкие и капризные, как у девочки, слегка будто воспаленные, но за ними торчали громадные зубья и толстые десны. Даже если б повесил себе на шею мальтийский крестик… но на его груди поблескивали дешевые значки со всякими дурацкими группами, какой-нибудь Depeche Mode и тому подобная фигня, жалкая дребедень… по сравнению с парнишкой на фотке Лэрри Кларка, вся моя жизнь — отстой, глубокий отстой! Я прекрасно знал, что никаких немецких детей в его жизни на самом деле не было, однако, понимая, откуда они взялось в его голове, я прощал ему этот безобидный вымысел. Танцевал он, правда, хорошо. Но это ничего не доказывало. Необязательно ездить в «Артек», чтобы научиться танцевать. Он много упражнялся дома перед зеркалом. У него был дохленький магнитофончик, подарок двоюродных братьев, он ставил старые кассеты, которые ему тоже подарили братья, и танцевал. В нем ощущалось какое-то отклонение, и меня это подзадоривало. Он легко выходил из себя: достаточно было перебить пару раз, и его веко начинало дергаться, он заикался, бледнел, кусал губу. Все это от замкнутой жизни, думал я. Так и теперь считаю. Его мать работала на мебельной фабрике, а бабка была глуха и всегда говорила «мудрости» с лукавым причмокиванием: «Мца, надо хорошо учиться. Чтобы работу хорошую получить. Мца!»
Томас ненавидел свое имя и происхождение (он был финном по матери и неизвестно кем по отцу). Он ненавидел своего отца, которого ни разу не видел. Я ему говорил, что нельзя ненавидеть человека, которого ты никогда не видел: «Например, — объяснял я ему, — своего отца я вижу почти каждый день, и от этого ненавижу его. Но если по какой-то волшебной причине я перестану его видеть, то ненависть пройдет, я просто забуду его». Но теперь я понимаю, что Томас знал о ненависти гораздо больше меня, и о многих других вещах он узнал гораздо раньше меня!
Я был первым настоящим официальным другом Томаса (кстати, позже он мне признался, что когда я воровал у них во дворе яблоки, это он меня заметил и настучал матери, чтобы она меня привела к нему и мы подружились), до меня были только большие мягкие игрушки, он их расчленял, выкалывал им глаза, а затем подбрасывал матери и бабке. Томас был истериком, у него случались припадки, он всех боялся, но иногда не выдерживал и начинал орать, бить кулаками всех подряд, слюни и слезы летели во все стороны, он мог даже рвать на себе одежду и волосы. К тому же он был исключительно злокозненным и на редкость циничным. Несмотря на свою ангельскую внешность — золотые кудри, бледная кожа, розовые тонкие губы, пшеничные длинные ресницы, — он был адски жестоким человечком. Я не раз видел, как лицо вынырнувшего из-за поворота нам навстречу мальчика, который был много младше нас и жил неподалеку, менялось от ужаса, когда он видел Томаса, а Томас, когда видел мальчика, замирал, как удав, заметивший кролика, его губы сжимались, глаза делались хищными, глухим утробным голосом он говорил ему: «Иди сюда, дрянь! Иди сюда, я сказал!»
Однажды он с наслаждением мне рассказал, как отомстил за что-то матери (хотя мстить можно было и просто так, без особой причины, наши матери заслуживали мести за одно то, как и где мы существовали, за это можно было мстить всю оставшуюся жизнь). Она взяла его на какой-то остров с работниками фабрики, и они все поехали на хутор к женщине, которая умирала от рака, ей оставалось недолго, сказала ему мать, Томас ехать не хотел, но сидеть дома со слепой бабкой было еще хуже, потому из двух зол со вздохом выбрал поездку на остров. Муж той больной женщины был непосредственным начальником матери Томаса, и вот когда они у костра пили и ели шашлыки, произносили тосты, этот начальник поднял стакан вина и попросил слова. Томаса к тому моменту уже все так нестерпимо достало, что он вскочил, подбежал к нему, встал в свете костра (был вечер, сумерки, изменчивое пламя) и громко крикнул в лицо начальнику: «Чтоб твоя жена поскорей сдохла», — и вернулся довольный на место. Ему тогда было шесть лет. Примерно тогда же мы и познакомились. Но рассказал он мне ее много лет спустя, и меня это немного беспокоило, не сколько сама история, а то, что он мне рассказал ее спустя почти двадцать лет с таким воодушевлением, как если бы все это случилось вчера или на днях. Это было в самом конце нашей дружбы. Мы пили с ним молдавский портвейн — за одиннадцать рублей, светлый и кислый, от него нас потом слабило, но мы хорошо опьянели, — и он мне признался, что всю жизнь считал меня инопланетянином, а затем с гордостью рассказал эту историю. Рассказал и переехал в другой район, где жили садисты. Он чувствовал себя там превосходно, ходил, как все, в спортивный зал, принимал стероиды, брился наголо, делал себе татуировки, вышибал зубы из челноков, работал токарем на каких-то заводах, гнал халтуру, клепал кастеты и даже стволы, нашел себе бабу, которую бил и пилил во все дыры, о чем рассказывал уголком рта всему городу, — хотя я всегда чаял в нем гомосексуалиста, но он был настолько озабочен образом мачо, что потопил в себе мои слабенькие надежды, не стал актером, не стал поэтом, не стал музыкантом, хотя пел прекрасно, не стал вратарем, не стал писателем, хотя писал неплохо, не стал даже вором, хотя мы с ним так ловко воровали; он стал обычным мужиком, мудаком, дураком, живет в Ыйсмяэ или Мустамяэ, пьет пиво, смотрит футбол, бьет жену, блюет с балкона, и когда сплевывает, обязательно сильно тянет сопли через ноздри, с клекотом в глотке. Он поселился на отшибе. Как некоторые насекомые, выбирают себе место, где плетут кокон, чтобы довести метаморфозу до конца, он выбрал себе ублюдочный блочный район недалеко от наводившей на мое детское воображение ужас трубы мыловарни. Мы с матерью проезжали мимо нее, когда навещали отца в госпитале; он умирал от заражения крови, мы ехали мимо трубы, я смотрел на нее, на клубы цветного дыма — она сильно чадила, по всей округе разнося нестерпимую вонь, и думал: когда человек умирает, он разлагается и воняет, наверное, так же, а когда труп сжигают, он вылетает в трубу (возможно, я предвидел, что однажды его кремируют). Мать сказала, что там сжигают животных и делают из них мыло. Вдыхая омерзительный запах, которым пропиталось все в том районе, я представил, как сгорают пойманные на улице собаки и кошки, — видение было таким отчетливым и страшным, что я заплакал, и это было очень своевременно, потому что отец был в страшном состоянии, и мои слезы были, как никогда, уместны и обманчивы, как фиониты, которые подсовывают иной раз простофилям, выдавая их за бриллианты.
Если б мать не покупала Томасу идиотские игрушки, чтобы он не скучал, когда она была на работе, может быть, он не был бы таким. Наверняка. Но тогда он был бы гораздо менее интересным. В конце концов он поборол в себе обиду, которая жила в нем вместе с остатками разодранных в его прошлом игрушек, и сделался таким, каким и был задуман изначально.
Когда я уезжал в пионерский лагерь или санаторий, он писал мне письма, иногда они приходили почтой, иногда их привозила мать, однажды он приехал ко мне в лагерь «Клоога-1» вместе с ней, чему я сильно удивился, и гордо сказал, что больше писать мне не будет и не особенно-то ждет моего возвращения, потому что теперь ему кое-кто пишет из ГДР, и показал тетрадку с письмами от немецких девочек и мальчиков.
Это был бурный порыв его фантазии и это был результат его убогого замкнутого существования. Если запирать детей в чуланах, они превращаются в монстров, по себе знаю. Потом он сам стал от всех прятаться, чтобы скрывать уродливость своего внутреннего мира. Я находил его на чердаке. Он там курил. Он рано начал курить. Тоже от одиночества. Он запирался от бабки, потому что не выносил ее трясущейся головы и шамкающего рта, не выносил шарканья ее ног и кудахтанья, она постоянно ему говорила, что надо учить уроки, чтобы хорошо закончить школу, чтобы получить работу, хорошую работу. Это было самым главным словом — работа. Бабка говорила с ним то по-эстонски, то по-фински, он ей кричал: «Говори по-русски, старая карга! Я хожу в русскую школу! Я найду себе русскую работу! Говори по-русски!»
Он терпеть ее не мог, потому так и не выучил эстонский, сносно понимал финские титры, потому что у них не было звука, но не говорил. Зато много писал по-немецки. Он писал письма немецких детей, с которыми он якобы вступил в переписку после того, как якобы съездил в «Артек». Это были прекрасные рассказы о том, как Рольф ходил на рыбалку с друзьями, и они подсмотрели, как купаются женщины, о том, как Герман и Эрик спрятались в папиной машине, и что-то делали… я так и не понял, чем они занимались там, в папиной машине… Но это было не так важно, все это были выдумки Томаса… Там был Питер, который гулял с девочками, и они все захотели писать, а туалета рядом не было, и они все писали вместе. Там было много всего… и там все было просто! Простая человеческая жизнь, о которой только может мечтать мальчик по имени Томас, которого заперли дома одного.
Я был уверен, что немецких детей, которые овладели его воображением, он придумал потому, что его двоюродные братья некоторое время на самом деле жили в ГДР (их отец там служил, он был какой-то военный) и у них было много шмоток, пластинок, игрушек и всяких штучек: ручек, значков, пустячных вещичек, которые и поражали воображение Томаса и вызывали в нем сильные уколы зависти. Не столько обладание этими безделушками вызывало в нем зависть, сколько то, что они свидетельствовали о едва вообразимой иностранной жизни, о которой Томас мечтал и которую не особенно ценили его двоюродные братья (они жаловались, что в Германии были слабые учителя, и им пришлось наверстывать по точным наукам, когда они переехали обратно в Эстонию), поэтому именно на них и была направлена его мстительная клептомания. Он тырил всякие ненужные вещицы, а потом говорил, что это ему прислали немецкие дети из ГДР.