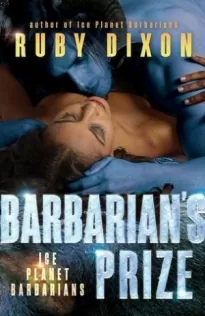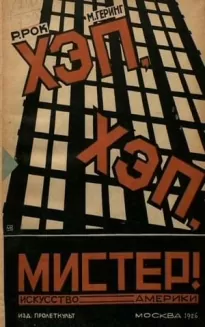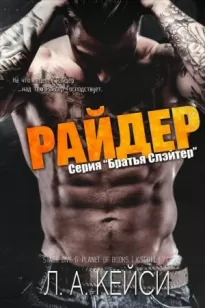Любовь и сон

- Автор: Джон Краули
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2008
Читать книгу "Любовь и сон"
Глава четвертая
Ангел-хранитель сестры Мэри Филомелы, как она и просила, разбудил ее до рассвета: она открыла глаза в четыре двадцать четыре (столько указывали светящиеся стрелки наручных часов на прикроватном столике — их подарил отец в день принятия окончательных обетов). Недвижно лежа на узкой кровати, она прочла про себя «Магнификат».[49] Можно было бы выбраться из постели и встать на колени, но не хотелось беспокоить сестер, спавших по обе стороны за белыми занавесками: они ухаживали за больными, и каждая секунда их сна была на вес золота.
Когда в дормитории началась суета и занавески, сначала с одной стороны, потом с другой, зашевелились, сестра Мэри Филомела встала и преклонила колени на плиточном полу (почему-то уж очень холодном по сравнению с деревянными полом монастыря в Вашингтоне), дабы испросить помощи, сил и мудрости, необходимых для нового послушания, к которому она была призвана. И ощутила нечто вроде прилива сил, подобного тому, как все ярче становился свет в окне позади ее кровати.
Сидя в туалете, она обнаружила, что менструация кончилась, и это было благом; сегодня она сможет принять душ и наконец-то очиститься очиститься очиститься. Сырая кабинка не вызывала такой дрожи, как обычно, хотя вода издавала все тот же серный запашок; вполне естественно, сестры, горные источники, говорила сестра Мэри Эглантин, хотя у сестры Мэри Филомелы, и не у нее одной, возникали мысли о загрязнениях, шахтовых отходах, угольных вагонетках, которые бесконечно сновали по рельсам под больницей.
Одеваясь (в то утро тщательней, чем обычно), она твердила «Магнификат». Величит душа моя Господа. Мысленно она совершала долгий путь вверх по склону холма, к дому Хейзлтона. Ей пока не удалось разыскать учебные пособия: рабочие тетрадки, хрестоматии, карточки с картинками, педагогические брошюры, которыми пользовалась, когда работала в вашингтонской школе; она усердно молилась, дабы ей было открыто, где в монастыре или его окрестностях они хранятся, однако не открылось. Деревянный святой Венцеслав,[50] единственный предмет в ее отделении, кроме распятия и комода с зеркалом, стоял все так же лицом к стене и, несмотря на все обращения сестры, ничем, совсем ничем не помог ни со школьными материалами, ни с желудком. Ну ладно, пусть постоит еще.
По коридорам двигались монахини, направляясь в часовню: руки спрятаны в рукава, покрывала опущены, закрытость черепахи, самодостаточность улитки, хотя на лицах при встречах отражается радость. Они заняли свои места в часовенке, и, пока не появился священник, по распоряжению сестры Мэри Эглантин затянули литанию:
Ангелов царица,
Молись за нас.
Милости вершина,
Молись за нас.
Пещера алмазная,
Молись за нас.
Храм слоновой кости,
Молись за нас.
Мудрость египетская,
Молись за нас.
Луны врата,
Молитесь за нас.
Крохотная часовня с миниатюрной церковной утварью всегда напоминала сестре Мэри Филомеле старинные картины, с малюсенькими замками и тронными залами, тесными чуланами, куда едва помещаются Приснодева или святые — локоть чуть не высовывается в окно, нога упирается в порог. Но здесь ли, в соборе ли Святого Петра, таинство совершается одинаково, умиротворяюще и ритмично, как спорое наложение повязки. Воплощение Страсти Воскресение Вознесение. Hoc est enim Corpus Meum.[51] Сестра Мэри Филомела приняла на язык пищу, рот наполнился свежей слюной, еще немного — и она бы снова задремала.
Однако внизу, за завтраком, перед земными злаками, она вновь оказалась бессильна. Как ни хотелось сделаться веселой и бодрой, сумела одолеть лишь несколько крохотных глоточков. Да что ж такое. А впереди долгое-долгое утро. Надеясь, что никто не заметит впустую потраченных «Уитиз»,[52] она очистила свою тарелку. Святейшей за всю историю ордена матери-настоятельнице был ниспослан дар неедения: она не ела или не нуждалась в пище три месяца подряд или три года. А поскольку она не принимала пищи, ей не приходилось и сами знаете что, не было у нее также и менструаций, а это, наверное, было истинным благословением. Сестра Мэри Филомела сомневалась в том, что ее неспособность завтракать является даром небес. Слишком тошнотворное это было ощущение, слишком холодило внутренности.
Она вышла из кухни черным ходом, где одна из сестер-кухарок штамповала на чем-то вроде вафельницы облатки для отправки в церковь; белые кругляшки с буквенным клеймом (IHS[53]) были сложены в столбики, напомнившие сестре Мэри Филомеле отцовские целлулоидные фишки для покера, красивые кружки, цветные и белые, которыми она в детстве играла. Странные вещи вспоминаются. Она помнила даже вкус этих фишек.
Уже не оставалось времени, чтобы разыскивать картонные коробки с принадлежностями ее прежней профессии. Она поспешила вверх по задней лестнице, никогда не спешите, сестры, и через центральный зал больницы к лестнице дормитория. В зале, у стены в светлой облицовке, неуместный на этом плиточном полу, как труп дракона или маска и топор палача, стоял Старый Комод; большой резной сундук из Старого Света, изъеденный червем и черный от воска, один из предметов, что перебрались вместе с сестрами через океан, один из предметов, разошедшихся по ветвям ордена, как доля бесполезного иммигрантского наследства, которую тащат за леса и моря и никогда не теряют. Сестры повторяли, что все потерянное нужно искать в Старом Комоде, и это была шутка, так как ключ или ключи еще в незапамятные времена пропали и дюжины ящиков и дверец оставались запертыми; сестры использовали его единственно как подставку для большой вазы с цветами, всегда свежими, — из-за них он походил на надгробие. Сестра Мэри Филомела замедлила шаги, чтобы втянуть носом запах.
В ванной комнате тоже неудача.
В своем отделении она заметила, что Венцеслав в робкой надежде наполовину отвернулся от стены, к которой она его поставила. Ну нет, подумала сестра Мэри Филомела, если это все, на что ты способен, то нет. Она твердо взяла святого за плечи и снова повернула к стене.
Монахини из больницы Пресвятой Девы Пути («Пресвятой Девы на Пути» — по простоте душевной называл его вначале Уоррен, и все Олифанты стали между собой повторять это название) принадлежали к австрийскому ордену, который в семнадцатом веке обосновался на чешских землях империи Габсбургов, только-только возвращенных в лоно католической церкви.[54] Сначала задачей ордена было обучение, император доверял ему заботу об отпрысках знатных богемских семейств, многие из которых еще недавно исповедовали протестантизм. (Сказочную версию этой истории Пирс и младшие Олифанты выучат на уроках.)[55] Полное название ордена было Смиренный Орден Пресвятого Дитяти, и он особенно почитал образ Иисуса, явленный в Праге: пригожее дитя в царских одеждах, увенчанное миниатюрной короной. В пропахшем сладкой выпечкой вестибюле больницы Пражское Дитя[56] в шелках и кружеве («как коллекционная кукла», сказала Хильди) помещалось на пьедестале, под колпаком в виде колокола, а за Ним стояла Его Мать.
Миссия инфантинок была та же, что и прежде, насаждать Веру в протестантских землях, хотя вместо прозелитизма они теперь обратились к Трудам, и распорядилась об этом сама Пресвятая Дева (в девятнадцатом веке это было сообщено матери-настоятельнице, которую ныне собирались причислить к лику блаженных). Но не исключено, что в Бондье их привели старые имперские связи, поскольку первыми обитателями аккуратных домиков, которые построила Удачинская угольно-коксовая, были (наряду с горцами, собравшимися со всей страны) богемские шахтеры — их наняли агенты компании на угольных месторождениях Пенсильвании. Именно ради этих людей (кто звал их немцами, кто поляками) и их семейств в Бондье был прислан священник, который построил с их помощью обшитую досками церковь в балке — храм Святого Причастия, нечетное добавление к шести другим городским церквям.
В последующие годы Пирсу случалось теряться, когда требовалось дать отчет себе или другим о своем детстве: слишком несопоставимы были крайности — монахини и горная «деревенщина» — и очень уж неуместным добавлением к этому всему были он сам и Олифанты. По воскресеньям они слышали со своего холма громкоговорители Всеевангельской Церкви Господа во Христе, на весь город транслировавшие службы (песнопения, проклятия, неразборчивые выкрики и стоны). Звук был слишком громкий, акцент слишком сильный, доктрина чересчур крайняя, чтобы детям было внятно хоть несколько слов, но Хильди все же задавалась вопросом, не нарушают ли они, слушая, то правило, которое запрещает католикам присутствовать на богослужениях других конфессий.
— Все равно, по какому праву они заставляют всех и каждого это слушать?
По мнению Пирса, нужно было бы обзавестись вертолетом и снабдить его большим громкоговорителем на длинной проволоке; как-нибудь в пасмурный день (один из тех, скажем, когда на небе громоздятся тучи, но время от времени расходятся, пропуская на землю конусы мистического света) вылететь на вертолете из укромного места, подняться над облаками, повыше, чтобы не был слышен шум мотора. А затем подвешенный внизу громкоговоритель внезапно объявил бы себя гласом Господним и повелел бы всем обратиться в католичество.
— Этому бы они поверили, — согласился Джо Бойд. — Наверняка.
— Все равно, — возразила Хильди, — если людей обмануть, они не станут настоящими католиками.
Пирс так не думал. Ему казалось, что если людей, не важно какими средствами, привлечь в нужное стадо, они постепенно осознают очевидную правоту доктрины, а тем временем избегнут опасности умереть вне церкви. Только нужен непременно вертолет, он может зависать в воздухе. Работенка для Невидимых.
— Все равно, — заявила Хильди, — если бы Бог этого хотел, то сделал бы сам, а он не делает, значит, не хочет.
Хильди считала, что глупо воображать себе Бога эдаким хлопотуном, который только тем и занят, что вмешивается в людские повседневные дела; в самом начале был учрежден естественный порядок вещей, принципы и то, что из них следует, и ныне он функционирует сам по себе, доступный пониманию любого, кто умеет думать и исполнен доброй воли. Дева Мария, та, бывает, является детям с посланием, по собственным резонам, однако Господь до такого рода чудес не снисходит. В Боге Отце Хильди превыше всего ценила его очевидный, хотя бесстрастный, реализм. В своем собственном отце — то же самое.
Живя вдали от надзора церкви, Сэм Олифант впал в ересь, пелагианство; сам того не сознавая, он принял еретическую доктрину двух церквей — одна для малолетних и простецов, и в ней все священное предание принимается на веру как оно есть; другая для умных, более просвещенных.[57] Подобно деистам восемнадцатого века, Сэм считал, что основой веры являются просто-напросто заключения разума; наслоенные на это основание литургия, догма, ритуал оправданны — или, во всяком случае, приемлемы — благодаря своей изначальной, не поддающейся упрощению разумности. Все обязанности, возлагаемые церковью, ты неукоснительно выполняешь, но веришь только в то, что принимает разум; собственно, чего требует разум, то и есть догма. Мир и сам является продуктом разума, эволюции, рациональности, умственного совершенствования людей и понимания ими рациональности мира. Рациональность мира — это истина, Бог создал мир рациональным, и Его Церковь не должна ей противоречить. Абсурдные детали веры, подобно групповым секретам или талисманам спортивной команды, Сэма не беспокоили: это была его церковь и нелепости тоже его.