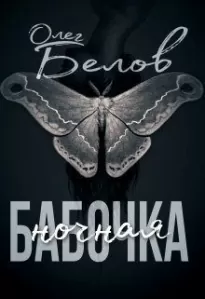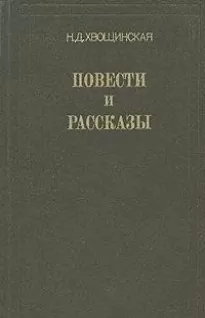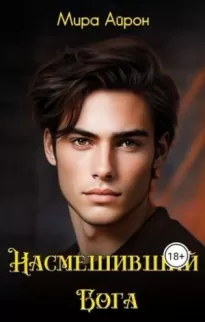Weird-реализм: Лавкрафт и философия
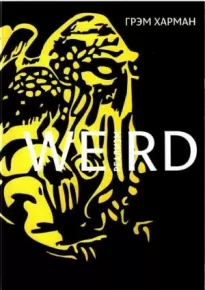
- Автор: Грэм Харман
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Weird-реализм: Лавкрафт и философия"
Каждая из связей, описанных онтографией, за исключением прямого контакта между реальными и чувственными объектами, требует посредника. В книге, посвященной Г. Ф. Лавкрафту, не требуется описывать все десять опосредующих отношений, но один момент особенно поразителен: наблюдатель (то есть реальный объект, RO) оказывается посредником для всех четырех связей, которые я называю напряжениями, и все они включены в ядро стиля Лавкрафта. Во всяком случае, это верно по отношению к сломам (breakdowns) в этих напряжениях, которые мы назвали «расщеплением» и «сплавлением», поскольку в таких случаях качества становятся отчасти независимыми от объектов, которым они подчинены, и тем самым превращаются в своего рода объекты. Здесь мы обращаемся к вопросу о двух чувственных объектах. Мы уже знаем, что два чувственных объекта могут быть опосредованы реальным объектом, который воспринимает их одновременно. Учитывая, что чувственная реальность существует только в опыте наблюдателя, ясно, что такой наблюдатель (который, повторюсь, является реальным объектом и не обязательно должен быть человеком) по необходимости присутствует на сцене в случае трех напряжений, которые мы назвали временем, пространством и эндосом. И хотя нет строгих оснований для того, чтобы распространять это и на случай напряжения между реальными объектами и их реальными качествами, следует помнить о том, что в случае подобия сущности (essence-like) у Лавкрафта — Азатота, окруженного ордой безумных танцоров, — мы имеем дело не с напряжением самим по себе, а только литературной аллюзией на него. И очевидно, что мы, наблюдатели (RO), оказываемся субъектами этой аллюзии.
Проблема парафраза заключается в том, что он претендует на преобразование реальной вещи в доступный нам смысл без потери энергии. Литературный текст превращается в поучение, которое можно сообщить кому-нибудь другому; изъятый реальный молоток превращается в молоток-для-нас или молоток-для-дерева, а мы не обращаем внимание на возникшие искажения. Таким образом, вещи можно брать и перемещать для эффективного применения в другом месте, но их можно и превратить в карикатуры и клише. Очевидная глупость содержания проистекает из того факта, что оно представлялось нам в виде независимого факта, не связанного ни с чем реальным. А теперь мы обнаруживаем, что в любом содержании есть немалая доля реального, которая привносится наблюдателем (всегда реальным объектом, будь то человек или нет), прикладывающим неподдельные усилия к тому, чтобы в любой момент быть связанным с данной, а не с другой вещью. Реальные объекты существуют в себе, вне зависимости от того, фиксирует ли кто-нибудь факт их существования. Но содержание — это всегда содержание для кого-нибудь. В житейских ситуациях мы, как правило, не обращаем на это внимание, поскольку принимаем себя как должное и предполагаем, что достаточно открыть глаза, чтобы увидеть все таким, какое оно есть. Как правило, мы не осведомлены об искажениях, которые накладываются на вещи вследствие нашей ограниченности или нашей одаренности. Поэтому мы обычно воспринимаем напряжение между нами и нашим опытом не больше, чем напряжение между яблоком и его реальными или чувственными качествами. Чтобы это произошло, необходимо пережить крах обыденной ситуации, в которой восприятия и смыслы просто находятся в нашем распоряжении как очевидные факты или в которой мы блуждаем по жизни, подобно роботам, твердя пустые слова и повторяя привычные жесты, принимая их за наше естественное выражение.
Одна из возможностей такого краха возникает благодаря техникам аллюзии и кубизма, которые ясно проступают в литературном стиле Лавкрафта. Обе техники создают новые объекты, два полюса которых замыкаются в неразрешимом напряжении — когда мы принимаем эти объекты всерьез, наши усилия, направленные на это и новизна впечатлений, возникающая в результате, проявляют и выявляют нашу отделенность от них. Дело не только в том, что потаенный объект-Ктулху находится в напряжении с качествами осьминога, дракона и человека, привязанными к нему, но и в том, что мы прилагаем усилия к тому, чтобы обратить внимание на этот объект. Поскольку для нас это оказывается непростым делом, постольку возникает сплавление нас как наблюдателей с этим новоявленным объектом. Такой опыт, без сомнения, можно назвать опытом содержания; в конце концов, в опыте невозможно непосредственное присутствие реальных объектов, поэтому нам нечего воспринимать, кроме содержания. Даже в повседневной жизни опыт всегда оказывается самостоятельным объектом, поскольку его можно анализировать бесконечно: никакой анализ не может его исчерпать и никакое количество анализов не может его заменить. Обычно мы это не осознаем, не больше, чем то, что напряжение между яблоком и его качествами — действительно напряжение. Но когда новый трудный опыт производит кризисы на линиях разлома вещей, становится очевидным то, что восприятие нового объекта невозможно пересказать, и, следовательно, этот опыт оказывается самостоятельной реальностью. Нельзя назвать его реальным в том смысле, что он находится в удаленных от нас глубинах, но все же он остается реальным в том смысле, что мы искренне вовлечены в него.
Однако к таким последствиям приводит не только расщепление, но и так называемое сплавление. Оно не может осуществляться непосредственно в опыте, поскольку мы, прежде всего, всегда смутно ощущаем свое сплавление с нашим опытом. Поэтому необходимо сплавление какого-нибудь суррогатного наблюдателя с наблюдаемым содержанием. Мы встречаемся не со сфинксом, Троянской войной, костюмом клоуна или банановой кожурой самими по себе, а, скорее, с другим наблюдателем, который встречается с ними. Наша искренность передается внешнему агенту. Мы уже видели, как возможно создание нового объекта путем сплавления чувственных качеств молотка с отсутствующим реальным молоком или чувственных качеств Ктулху с реальным «духом этого создания» или «общими впечатлениями». Но теперь мы видим, что равным образом возможно создать новый объект, сплавляя чувственный опыт с реальным объектом, который будет наблюдателем, но не нами. В таком случае мы попадаем не под непосредственное влияние событий, а под влияние вовлеченности другого наблюдателя в них. И мы уже знаем, что это можно осуществить только двумя способами — комедией и трагедией.
Нельзя сказать, что в комедии обязательно должна быть счастливая развязка, ведь смешное можно обнаружить и во множестве книг, буквальное содержание которых будет отталкивающим по всем статьям: на ум приходят «Кандид» Вольтера, «Путешествие на край ночи» Селина и в особенности «120 дней Содома» Сада. Аналогичным образом нельзя отождествлять трагедию с печальной концовкой. Несмотря на то, что примеров здесь не так много, все-таки есть множество книг, в которых не происходит ничего по существу негативного, но они пронизаны смутным трагическим духом меланхолии; такое впечатление производят детские книги с картинками, во всяком случае, на меня. Так что единственное осмысленное, хотя и кажущееся на первый взгляд упрощенным определение комедии мы находим у Аристотеля: «Такова же разница и между трагедией и комедией: одна стремится подражать худшим, другая — лучшим людям, нежели нынешние»[130]. И мы уже знаем, что «лучше» или «хуже» указывает не на лучшее или худшее с точки зрения статуса, класса, образования, богатства или красоты, а только на высшее или низшее положение с точки зрения ранжирования наблюдателем объектов, которые он в настоящий момент воспринимает всерьез. В обоих случаях — трагическом и комическом — производится новый реальный объект, который содержит полную меру реальности, несмотря на то, что он производится в нас путем сплавления реального объекта (наблюдателя) с чувственным опытом. Литературу можно охарактеризовать как систематическое производство искренности, даже если предметом этой искренности будет болезненное распутство Сада. Этим литература отличается от философии, которая ориентирована на реальность за пределами опыта и не стремится производить реальности внутри него.
Таким образом, мы избегаем таксономической ошибки внутри нашей собственной позиции. Ведь, надо сказать, объектно-ориентированная точка зрения всегда рискует остаться с утверждением, что неподдающаяся парафразу реальность лежит только в отсутствующих глубинах мира, а переживаемое содержание всегда буквально и доступно для коммуникации. Но теперь мы находим явное производство невыразимых реальных объектов (антарктические города, идолы Ктулху) в самой сердцевине чувственной сферы. Будучи лишенными доступа к реальным объектам, которые скрываются под слоями восприятия и любых других контекстов, мы производим наши собственные реальные объекты посреди контекстов — как если бы бесчисленные черные дыры внезапно, но умышленно зарождались бы внутри банков, больниц, торговых центров или во Флоренсе, Стратфорде и Провиденсе.
notes
Примечания
1
Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft: Against the World, Against Life, trans. D. Khazeni (San Francisco: Believer Books, 2005), p. 41 [Уэльбек M. Г. Ф. Лавкрафт: Против человечества, против прогресса. Екб.: У-Фактория, 2006. С. 28].
2
На наш взгляд, английское слово weird должно быть включено в словарь непереводимостей наравне с греческим φάρμακον, немецким Dasein и французским differance. Его первое словарное значение — «странный», но такой перевод был бы весьма неточным в контексте размышлений Хармана о Лавкрафте. В английском языке есть прилагательное strange — «странный» — с аналогичной русскому слову этимологией и словообразовательным гнездом, родственное глаголу to strange — «странствовать» — и существительному stronger — «странник». Эти слова имеют общие коннотации путешествия, перемещения в пространстве и удаленности от фиксированного центра. Слово же weird не имеет отношения к странствиям; также оно должно быть отличено от «фантастического» и «жуткого» (uncanny, фрейдовское Unheimliche). Этимологически weird восходит к древнеанглосаксонскому wyrd — рок, судьба, от глагола weorthan — «становиться», который в свою очередь восходит к праиндоевропейскому корню *uert — «поворачиваться» (его можно услышать в русских словах «вертеть», «превращаться», «извращение»).
3
Другими основными авторами, разрабатывающими ООО, в настоящее время являются Иен Богост, Леви Брайант и Тимоти Мортон. Хотя все они выступают за изъятость реальных объектов из преходящих чувственных качеств последних, никто из них всецело не отстаивает, в отличие от меня, четверичную структуру объекта, в рамках которой реальные и чувственные объекты сочетаются с реальными и чувственными качествами. См.: Graham Harman, The Quadruple Object (Winchester, UK: Zero Books, 2011) [Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / пер. с англ. А. Морозова и О. Мышкина. Пермь: Гиле Пресс, 2015].
4
Graham Harman, “On the Horror of Phenomenology: Lovecraft and Husserl,” Collapse IV (2008), pp. 333-364 [Харман Г. Ужас феноменологии: Лавкрафт и Гуссерль//Логос. 2019, NC 5 (132). С. 177-202].