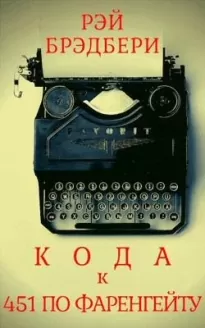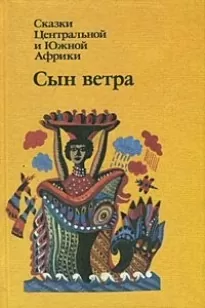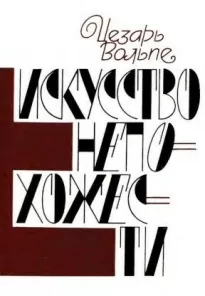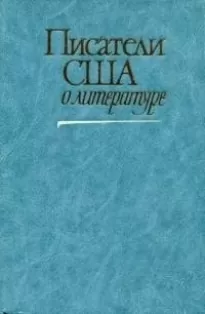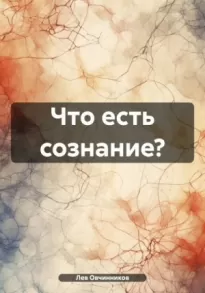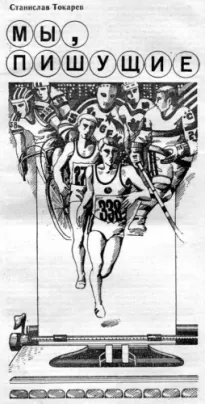Легенды и мифы о Пушкине

- Автор: Мария Виролайнен
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Легенды и мифы о Пушкине"
(Биографический контекст стихотворения «Арион»)
По своей устойчивости и распространенности миф о «Пушкине-декабристе» сравним только с противоположным по содержанию мифом о «Пушкине-сервилисте», или, как деликатно выразился А. Блок, «Пушкине — друге монархии»[359].
Естественно, что обе эти точки зрения на пушкинскую личность, при всей их взаимной враждебности, имеют в виду примерно одинаковый набор обстоятельств жизни поэта и его произведений. Ни одна из них не обходится без рассказа о свидании Пушкина с императором Николаем I в Петровском замке в сентябре 1826 г., без анализа осложнившихся взаимоотношений поэта с друзьями в 1827–1829 гг., без обращения к обстоятельствам путешествия на Кавказ в 1829 г., без изучения последних лет жизни Пушкина. Очень часто интерпретация пушкинских произведений существенным образом зависит от того, внутри какой биографической парадигмы они рассматриваются. Так, например, «Медный всадник» может быть оценен как «апофеоз Петра» и абсолютизма вообще в рамках мифа о «Пушкине — друге монархии» или же как аллегория декабрьского восстания в рамках мифа «Пушкин — несостоявшийся декабрист». «Медный всадник», пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, насколько жестко оценка произведения зависит от характера приписываемого ему биографического контекста. Но лишь очень немногие пушкинские тексты определенно и долговечно относятся только к какому-нибудь одному мифу. Любопытно при этом, что миф о «Пушкине-сервилисте» характеризуется более устойчивым набором соответствующих ему произведений. Так, по крайней мере до сих пор, никому не удалось оспорить, что в стихотворениях «Стансы», «Друзьям», «Герой», «Бородинская годовщина» Пушкин выказал свои симпатии просвещенному абсолютизму. Более сложно обстоит дело с произведениями, соответствующими альтернативному мифу о Пушкине как тайном декабристе. Здесь, в особенности в последние годы, пушкиноведы не оставили ничего бесспорно относящегося к этому и только к этому мифу. Даже «Послание в Сибирь», — казалось бы несомненное проявление декабристских симпатий Пушкина, — было недавно рассмотрено как призыв декабристам надеяться на царскую милость[360].
И только стихотворение «Арион», единственное до последнего времени, сохраняло репутацию своеобразного поэтического манифеста, в котором Пушкин выразил свою верность декабристам. Более того, это произведение традиционно рассматривается как обобщение размышлений поэта о собственном месте среди декабристов. Все в нем как будто дает основания именно для такого прочтения: написанное 16 июля 1827 г., три дня спустя после первой годовщины казни декабристов, стихотворение связано со многими декабристскими замыслами поэта. От этого общего положения некоторые исследователи делали следующий шаг и пытались рассмотреть «Арион» как аллегорическое изображение декабрьского восстания; даже всерьез поставлен вопрос, кого же Пушкин имел в виду под «кормщиком умным»: Пестеля или Рылеева?[361]
Относительно недавно общий ход продекабристских интерпретаций стихотворения был нарушен скептическим замечанием В. В. Пугачева, исследователя, давно и плодотворно развивающего тему «Пушкин и общественное движение»: «Декабристы явно не узнали себя ни в „пловцах“, ни в „кормщике“. Анонимность „Ариона“ не могла обмануть сибирских мучеников. Публикация в „Литературной газете“ делала для них авторство совершенно прозрачным. Не узнать „таинственного певца“ они не могли. Никто из современников не увидел в стихотворении аллегорического изображения декабристов»[362].
Утверждение В. В. Пугачева о «прозрачности» авторства «Ариона» не кажется нам бесспорным. Вопросы о том, почему Пушкин опубликовал стихотворение, во-первых, только три года спустя после его написания и, во-вторых, анонимно, не просты, и мы предполагаем вернуться к ним в конце нашей работы. В целом же мысль исследователя представляется совершенно справедливой: аллюзионное, узкоаллегорическое восприятие «Ариона» было чуждо современникам поэта.
Эта точка зрения не была доминирующей и в научном пушкиноведении до того момента, как в нем сложились те две альтернативные парадигмы, о которых речь уже шла. Однако уже в начале 1920-х годов утверждение Л. С. Гинзбурга о том, что «весьма возможно, что „Арион“ никакого отношения к декабристам не имеет и, создавая его, Пушкин думал только о поэте»[363], вызвало энергичные возражения Ю. М. Соколова, Н. Н. Фатова, В. В. Леоновича-Ангарского, Н. К. Пиксанова и некоторых других советских литературоведов, присутствовавших на выступлении Л. С. Гинзбурга. Дело в том, что и приведенная выше, и многие другие интересные мысли Гинзбурга об «Арионе» были изложены им не в статье, а в устном сообщении, прочитанном на заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1924 г. Если бы доклад был опубликован, то, возможно, не было бы необходимости в настоящей статье. Однако выступление Гинзбурга было забыто и о его содержании можно только догадываться, причем не столько по крайне конспективному, скупому изложению его в «Хронике», сколько по гораздо более пространно представленным там замечаниям его оппонентов. Обратившись к рукописи стихотворения, хранившейся тогда в Румянцевском музее, ученый обратил внимание на «стремление поэта переделывать текст, напр., замена слов „нас“ словом „их“ <…> или замена „я“ на „он“. <…> Получается впечатление, — отмечал докладчик, — что поэт хотел затушевать свою связь с декабристами, если стихотворение имело их в виду»[364].
К смыслу тех изменений, которые Пушкин вносил в употребление личных местоимений, мы еще вернемся. Здесь же хотелось бы подчеркнуть, что именно текстологические наблюдения над стихотворением менее всего укладываются в рамки «декабристской» интерпретации «Ариона». Помимо того, что уже сказано об этом Гинзбургом, нам бы хотелось обратить внимание на историю изменений строки 13 стихотворения.
Первоначально в беловом автографе (единственном сохранившемся) она звучала так: «Гимн избавления пою» (III, 593). Затем в первом слое правки строка приобрела следующий вид: «Я песни прежние пою» (III, 593), а при последующем исправлении изменилась еще раз: «Спасен Дельфином, я пою» (III, 593). В последнем, третьем, слое поправок Пушкин самым существенным образом переработал все стихотворение, повсюду, где это было необходимо, заменив форму первого лица на третье: «Их было много на челне…» (III, 593) вместо «Нас было много на челну»; «А он — беспечной веры полн» вместо «А я, беспечной веры полн»; «Пловцам он пел» вместо «Пловцам я пел»; «Лишь он — таинственный певец» вместо «Лишь я — таинственный певец». Любопытно, что и из тринадцатой строки «Спасен Дельфином, я пою» «я» было исключено, однако глагол сохранил личную форму первого лица, получилось: «Спасен Дельфином, пою». В окончательном варианте текста строка была снова изменена, приобретя привычное для нас звучание: «Я гимны прежние пою» (III, 58).
Колебания Пушкина в выборе строки 13 не прошли мимо внимания исследователей. Так, Т. Г. Цявловская, принадлежавшая к числу активнейших создателей мифа о «Пушкине-декабристе», писала об этом следующим образом: «Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих „Ариона“ — „Я гимны прежние пою“ — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в „Литературной газете“ в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно»[365].
Как видим, хотя Т. Г. Цявловская и признает ключевое значение строки 13 «Ариона» (стих, ради которого, казалось бы, написано стихотворение), она даже не пытается ответить на вопрос, чем определены колебания поэта в ее выборе.
Не дал объяснения этому обстоятельству и Ю. П. Суздальский, с методологической точки зрения безусловный протагонист Т. Г. Цявловской. В своем исследовании, посвященном реконструкции культурного фона стихотворения, он только констатировал, что Пушкин в работе над стихотворением постепенно удалялся от античного мифа об Арионе и что окончательный вариант, кроме мотива чудесного спасения поэта, не содержит ничего общего с историей о рапсоде, спасенном чудесной силой своего искусства[366]. Это, может быть, чересчур категоричный вывод, поскольку и в своем окончательном виде пушкинское стихотворение содержит общий с мифом мотив «спасения из морской стихии», не говоря уже о том, что в обоих случаях речь идет о певцах, поэтах. Но, конечно, важно, что античный миф содержал не только мотив спасения (кстати, ни о какой буре речи в нем не идет), но и образ чудесного спасителя — Дельфина, — присутствующий в промежуточных вариантах стихотворения, но исключенный из окончательного текста.
Наиболее же содержательные отличия пушкинского «Ариона» от древнегреческого мифа таковы:
1. В мифе рапсод Арион, возвращаясь на корабле с поэтического состязания, на котором он выиграл крупный денежный приз, попадает к разбойникам. У Пушкина поэт на «чолне» находится среди друзей и единомышленников.
2. В мифе разбойники покушаются на имущество и жизнь Ариона. У Пушкина источником общей, а не только для поэта, опасности является внезапно налетевшая буря.
3. Арион спасается, получив от разбойников разрешение исполнить свой гимн. Пение рапсода привлекает дельфина. Таким образом, вся история обретает особое дидактическое звучание: оказывается, что поэт избавляется от опасности силой своего искусства. Именно здесь Пушкин проявляет наибольшие колебания, раздваиваясь между желанием объяснить спасение «таинственного певца» вмешательством чудесного спасителя («Спасен Дельфином, я пою») или же просто действием слепых сил судьбы, которые случайно пощадили его одного. Последнее объяснение находится в наиболее резком противоречии с содержанием античного мифа, поскольку элиминирует не только роль чудесного спасителя, но и мотив спасительной силы самого искусства.
4. В древнегреческой истории Арион, принесенный дельфином к берегам Коринфа, был радостно встречен здесь местным тираном Пелиандром. У Пушкина же этот мотив «радостной встречи» полностью отсутствует, и это значимо, поскольку стихотворение включает в себя описание берега.
5. И наконец, в пушкинском стихотворении «гроза» («вихорь шумный») является не только источником опасности, но одновременно и средством спасения («на берег выброшен грозою»). Таким образом, в стихотворении выстраивается некоторая цепь случайностей: неожиданны как сама буря, так и спасение от нее. Это совмещение неожиданностей парадоксально усложняет всю ситуацию, подчиняя ее каким-то таинственным законам (отсюда «таинственный певец»).
Нам представляется, что колебанием в решении вопроса о том, кому именно поэт обязан своим спасением, слепым силам судьбы, персонифицированным в образе «грозы», или же чудесному спасителю-«Дельфину», связано возникновение другой, столь же непростой проблемы выбора между «Гимном избавления» и «песнями (гимнами) прежними». «Избавление» предполагает более тесную связь с чудесным спасителем.