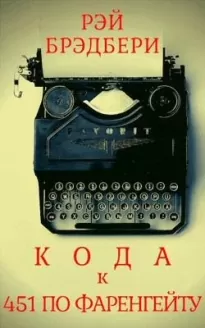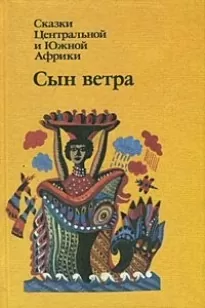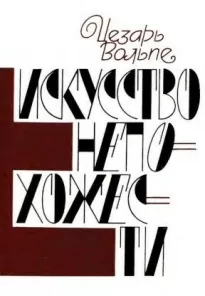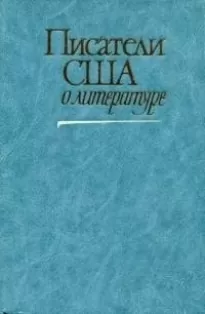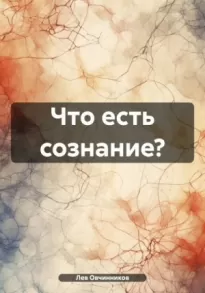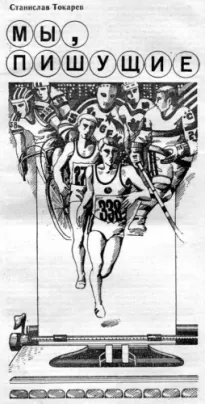Легенды и мифы о Пушкине

- Автор: Мария Виролайнен
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Легенды и мифы о Пушкине"
Тот факт, что шеф жандармов усмотрел в стандартном типографском оформлении злонамеренность Пушкина, свидетельствует о недоверчивом и подозрительном отношении властей к поэту. И Пушкин, конечно, это понимает и стремится нормализовать свои отношения с правительством, хотя молва значительно преувеличивает степень его усилий; сам он ни в коей мере не рассматривает как компромиссы ни составление записки «О воспитании», ни объяснения по делу об «Андрее Шенье», ни ответ Бенкендорфу на запрещение «Бориса Годунова» (все это пишется до лета 1827 г.). Правительство же явно усматривает в его действиях противостояние себе.
Видимо, переломным во многих отношениях стало свидание Пушкина с Бенкендорфом, состоявшееся 5 июля 1827 г. Сразу же после него следствие по делу о виньетке к «Цыганам» было прекращено, а «Стансы», лежавшие без движения более полугода, оказались у Бенкендорфа. Таким образом, примирение с правительством произошло, и вечером того же дня шеф жандармов писал императору: «Пушкин <…> после свиданья со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[377].
Автограф «Ариона» имеет дату: 16 июля 1827 г. Несомненно, что этот день в первую очередь переживался поэтом как день, близкий к годовщине казни декабристов (13 июля 1826 г.) Но вместе с тем всего лишь за десять дней до того произошло свидание с Бенкендорфом, событие, давшее Пушкину лишний повод задуматься о своем спасении в «общей буре». М. К. Лемке высказал мнение, что «Арион» явился поэтическим откликом на это свидание («и слабохарактерный, доверчивый Пушкин, не допускавший и мысли о веденной против него гнусной блокаде, в порыве чувств пишет через десять дней после свидания с Бенкендорфом своего „Ариона“»)[378]. Можно не соглашаться с категоричностью и односторонностью подобного утверждения, но нельзя отрицать, что оно имеет основание: в процессе работы над стихотворением, после ряда сомнений и колебаний, поэт остановился на варианте «Спасен Дельфином, я пою». Уже относительно давно Ю. М. Соколов осторожно высказал точку зрения о том, что «образ дельфина, на котором спасся поэт, может быть, намек на Николая I»[379]. Осторожность явно нелишняя, поскольку в дальнейшем мнение Соколова будет приводиться как пример исследовательского аполитизма: «Это сближение неосновательно, — с пафосом восклицал Г. С. Глебов, — в атмосфере декабрьской трагедии у Пушкина не могла возникнуть мысль о Николае как спасителе»[380].
Увы, вопреки утверждению Глебова, мысль о том, что именно Николаю он обязан своим спасением, не только приходила в голову Пушкину, — начиная со второй половины 1827 г. он неоднократно высказывал ее вслух. «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу: виват!» — так (по донесению секретного агента) Пушкин определил свое отношение к императору в октябре 1827 г.,[381] и это было не случайное высказывание.
20 июля «Стансы» переданы Бенкендорфу (шаг символический). Чуть позже началось их систематическое распространение в обществе. «За ужином, — доносит полицейский агент, — при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты. <…> Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивался с Петром»[382]. В «Записках» А. О. Смирновой-Россет приводится эпизод, на достоверности которого мы не настаиваем, но который характеризует определенный взгляд на биографию Пушкина 1827–1828 гг.: Пушкин читает Смирновой отрывок из стихотворения А. Шенье «Арион» («Юный Арион, прогони из сердца страх, Причаль к берегам Коринфа; Минерва любит этот тихий берег, Периандр достоин тебя; И глаза твои узрят там мудреца») и добавляет: «Тот, кто говорил со мной в Москве, как отец с сыном, в 1826 г., и есть этот мудрец. <…> Арион пристал к берегу Коринфа»[383].
Какой бы смысл Пушкин не вкладывал в стихотворение, распространяя «Стансы», он только усугублял наметившийся еще весной 1827 г. конфликт между ним и либеральной частью русского общества. Однако если тогда в него не были втянуты друзья, то сейчас поэт основательно испортил отношения именно с близкими людьми. Осудил написание «Стансов» и способствовал появлению слухов о том, что они были написаны «за полчаса, в присутствии государя, в кабинете его величества», А. И. Тургенев[384]; с упреками в сервилизме выступил П. А. Катенин[385], прервалось общение Пушкина с П. Я. Чаадаевым. Даже отношения с верным Вяземским в начале 1828 г. явно переживают кризис, и дело здесь, как нам представляется, не только в нескольких не вполне благожелательных оценках, данных Вяземским поэме «Цыганы», а прежде всего в том, что рубеж 1827–1828 гг. — это пик оппозиционности Вяземского[386], а для Пушкина — период наиболее явных попыток прийти к компромиссу с властью.
Пушкин остро переживает разлад между ним и обществом и понимает, что обнародование «Ариона» со строкой «Спасен Дельфином, я пою», аллюзивный смысл которой не ускользнул бы от современников, только усугубило бы его. Видимо, в этом причина того, что поэт не делает попыток опубликовать стихотворение или же распространить его в копиях. Ситуация требовала от него более прямого ответа, и в начале 1828 г. появляется стихотворение «Друзьям», где отводится обвинение в том, что «Стансы» написаны «по заказу», и утверждается свободный характер творчества. Черновик стихотворения содержит размышления Пушкина на весьма волновавшую его в это время тему «клеветы»: «Я жертва мощной клеветы; Ты знаешь — жертва клеветы; Презрев — ты знаешь — клеветы» (III, 643).
Стихотворение «К друзьям» не способствовало примирению[387], однако к 1830 г. отношения поэта с большинством тех, кому оно было адресовано, наладились и окрепли. И только тогда, в июле 1830 г., в 43-м номере «Литературной газеты» был впервые опубликован «Арион», без подписи и с тринадцатой строкой, измененной в четвертый раз. Теперь она звучала так: «Я песни прежние пою».
Какие же обстоятельства сделали возможной публикацию и предопределили ее анонимный характер? Нам представляется, что в первую очередь — новая волна слухов о сервилизме поэта, инспирированная литературными противниками Пушкина, которые использовали эти слухи как важнейшее средство газетно-журнальной полемики. В марте 1830 г. «Северная пчела» Ф. Булгарина опубликовала «Анекдот», явившийся грубым пасквилем на Пушкина («Бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан»)[388].
Так клевета сделалась достоянием толпы. Это произошло как раз в тот момент, когда отношения Пушкина с властью вновь испортились, а кризис во взаимоотношениях с друзьями был преодолен и сложилось то, что М. И. Гиллельсон назвал «пушкинским кругом писателей». Выпад Булгарина был местью поэту за то, что тот не скрывал своего мнения о почтенном издателе «Северной пчелы» как о тайном агенте Третьего отделения; именно Булгарина Пушкин считал жандармским рецензентом «Бориса Годунова», из корыстных соображений отсрочившим публикацию трагедии более чем на год. В начале апреля «Литературная газета» опубликовала статью Пушкина о Видоке, агенте французской политической полиции; в последнем все без труда узнали Булгарина.
В мае журнальная война вступила в новую фазу в связи с публикацией стихотворения Пушкина «К вельможе»[389]. «Все единогласно пожалели об унижении, какому подверг себя Пушкин», — вспоминал в связи с этим Кс. А. Полевой[390], понимая под «всеми» прежде всего своего брата, Н. А. Полевого, выступившего против Пушкина вместе с Булгариным.
43-й номер «Литературной газеты», в котором был помещен «Арион», почти целиком состоял из ответных реплик писателей пушкинского круга. Стихотворение, написанное тремя годами ранее, нашло здесь свое естественное место и воспринималось как обобщение опыта трудных лет. В нем больше не было и намека на «чудесного спасителя».
Двумя важнейшими мотивами оно перекликается с посланием «К вельможе», вызвавшем такую оживленную полемику. Прежде всего общим стал мотив неожиданной бури. В «Арионе»: «Вдруг лоно волн / Измял с налету вихорь шумный…» (III, 58). В послании «К вельможе» о французской революции: «Все изменилося. Ты видел вихорь бури, / Падение всего, союз ума и фурий…» (III, 219). Другое важное сходство — утверждение неизменной самоценности творческой личности, выключенной из исторического процесса. То, что в «Арионе» изображается Пушкиным как чудесное спасение, в послании «К вельможе» показано как сознательная позиция «героя» стихотворения.
Немаловажен вопрос о том, почему публикация «Ариона» была анонимной. Традиционная версия, объясняющая это обстоятельство цензурными причинами, не представляется нам убедительной, поскольку в 1831 г. Пушкин включил стихотворение в список для нового издания своих сочинений.
Анонимный характер публикации «Ариона», сам контекст, в котором стихотворение появилось в печати (в полемическом номере «Литературной газеты»), свидетельствуют о том, что Пушкин хотел избежать биографических «сближений». И дело здесь не только в том, что поэт боялся дать повод для очередных упреков в сервилизме (хотя очень может быть, что мотив «чудесного спасителя» — Дельфина — исключен из стихотворения именно по этой причине). Представляется, что «Арион» призван был обобщить личный опыт не только Пушкина, но того относительно широкого круга лиц, который в 1830 г. был сплочен А. А. Дельвигом вокруг «Литературной газеты». Действительно, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, П. А. Вяземский, О. М. Сомов — почти каждый из постоянных авторов «Литературной газеты» пережил к этому времени «бурю», ставшую действительно «всеобщей», хотя порой, как это было в случае с Катениным и Вяземским, лишь косвенно связанную с событиями 14 декабря.
О стремлении Пушкина объективизировать смысл стихотворения свидетельствует характер последней правки, когда повсюду он заменил первое лицо («нас», «я») на третье («их», «он»). В этом проявилось, как кажется, желание не столько отстраниться от ситуации, сколько придать ей характер как можно более универсальный и символический. Несомненно, поэт предвидел опасность узкобиографического, а значит и аллегорического, прочтения. Напомним, что незадолго до публикации «Ариона» ему пришлось принять участие в полемике, развернувшейся вокруг «Демона». Большинство критиков увидели в этой пушкинской элегии отражение личного опыта поэта. «[Думаю, что критик ошибся], — отвечал на подобное предположение Пушкин. — Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в „Демоне“ цель иную, более нравственную» (1825 г. — XI, 30).
По мысли поэта, дело совсем не в том, отражает или нет стихотворение «Демон» конкретные обстоятельства его жизни, важно и нравственно то, что здесь поэт обобщил духовный опыт своего века: «И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения? и в приятной картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века» (там же). Привязка «Демона» к каким-то конкретным обстоятельствам жизни Пушкина лишала стихотворение этого обобщающего значения, делала его однозначной аллегорией, а не символом.