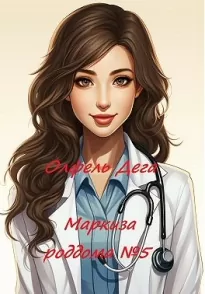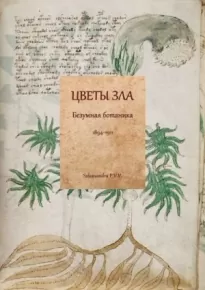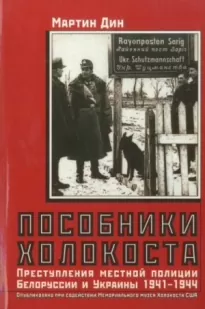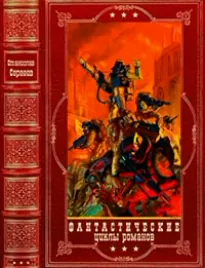Оттепель. Действующие лица
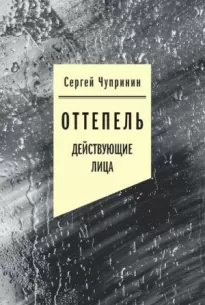
- Автор: Сергей Чупринин
- Жанр: Литературоведение / Биографии и Мемуары / Современные российские издания / Политика и дипломатия / История России и СССР
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Оттепель. Действующие лица"
Эткинд Ефим Григорьевич (Гиршевич) (1918–1999)
В аккурат перед самой войной Э. окончил романо-германское отделение ЛГУ, так что и воевал он по специальности — переводчиком на Карельском и 3-м Украинском фронтах[3355], дослужился до звания старшего лейтенанта, был награжден орденом Красной Звезды и медалями, а после Победы защитил кандидатскую диссертацию (1947) и преподавал в 1-м Ленинградском педагогическом институте иностранных языков.
Недолго, впрочем, так как в ходе истребления безродных евреев он в 1949-м был уволен за неясные и ему, и его начальству «ошибки космополитического характера»[3356] и на три года уехал в Тулу, где работал в местном пединституте. В 1952-м ему удалось вернуться, получить доцентскую должность в ЛГПИ имени Герцена, стать членом Союза писателей (1956), доктором филологических наук (1965) и, наконец, профессором (1967).
Для тех времен биография относительно благополучная, поэтому Э. если чем и выделялся в общем ряду питерских филологов, то универсальностью эрудиции[3357] и широтою авторских интересов. Дебютировав еще перед войной рецензией на пьесу К. Паустовского «Поручик Лермонтов» (Ленинградская правда, 7 июня 1941 года), он и в дальнейшем сохранил вкус к разговору о современной литературе. Хотя чаще писал, конечно, о русской и западноевропейской классике, специализируясь по преимуществу на истории и практике художественного перевода в России. И сам всю жизнь переводил: стихи Гёте и Гейне, эссеистику Т. Манна и Э. Золя, пьесы П. Корнеля, Л. Фейхтвангера, Г. Сакса, иное многое, а переложенная им с немецкого брехтовская «Карьера Артуро Уи» (1963) долгие годы с триумфальным успехом шла на сцене Большого драматического театра в Ленинграде.
Вполне понятно, что, в отличие от ученых кабинетного толка, Э. и в писательской среде чувствовал себя столь же естественно, как в академической. Необыкновенно общительный или, как сейчас бы сказали, контактный, он дружил со всеми, кто заслуживал дружбы, вел, помимо семинарских занятий с молодыми переводчиками, еще и устный альманах «Впервые на русском языке», «превратив, — по словам К. Азадовского, — это невинное литературно-переводческое мероприятие в клуб или, если угодно, трибуну», где «рушился на глазах занавес, что называли железным», и, хотя «никто не обличал, не клеймил и не призывал», «„антисоветский“ дух, овевавший собрания питерской интеллигенции, таился в стилистике»[3358].
Разногласия с властью — на первых, по крайней мере, порах — были у Э. действительно не столько политическими, сколько стилистическими или, скажем по-иному, нравственными. Поэтому он вскоре после публикации «Одного дня Ивана Денисовича» сблизился с А. Солженицыным и всяко ему помогал. И поэтому же в марте 1964 года выступил свидетелем защиты на процессе по делу И. Бродского, причем выступил так напористо, что суд в частном определении уличил его в «отсутствии… идейной зоркости и партийной принципиальности», потребовав взыскания по линии Союза писателей.
Взыскание было, естественно, вынесено, но тогда обошлось, что называется, малой кровью. Как относительно малой — для самого Э. — кровью обошлось и пресловутое «дело о фразе». Оно состояло в том, что во вступительной статье к двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода» Э. объяснил причины небывалого расцвета переводческого искусства в СССР очень просто и очень доходчиво: «…Лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, русские поэты — особенно между XVII и XX съездами — говорили со своим читателем устами Гёте, Орбелиани, Шекспира, Гюго»[3359].
И одной только этой фразы оказалось достаточно, чтобы уже отпечатанный тираж первого тома был уничтожен, а решением бюро Ленинградского обкома КПСС от 22 октября 1968 года главный редактор питерского отделения издательства «Советский писатель» М. М. Смирнов и заведующая редакцией «Библиотеки поэта» И. В. Исакович за преступную близорукость уволены с объявлением им строгого партийного выговора[3360]. Тогда как Э. вроде бы не тронули, «всего лишь» заблокировав издание его книги «Материя стиха».
И «всего лишь» пополнив скрупулезно собиравшееся органами досье, которое обрушилось на Э. спустя два месяца после депортации А. Солженицына в Германию. И здесь — на заседании Ученого совета ЛГПИ 25 апреля 1974 года, на состоявшемся в тот же день заседании секретариата Ленинградской писательской организации — ему всё припомнили: и защиту Бродского, и поддержку Солженицына, и письмо, которое распространялось в самиздате как «Воззвание к молодым евреям» с призывом не уезжать в Израиль, а на родине бороться за ее честь и демократическое обновление.
Всё припомнили — и всего лишили: и членства в Союзе писателей, и работы, и возможностей печататься, и профессорского звания, а вдогонку — 8 мая — еще и степеней как доктора, так и кандидата филологических наук.
Э. был потрясен. Причем, если судить по его мемуарной книге «Записки незаговорщика» (1977), не столько суровостью кары, сколько тем, что коллеги, часто даже приятели по институту, по Союзу писателей проголосовали за его изгнание единогласно. Хоть бы кто-нибудь воздержался!..[3361] Так ведь нет же — единогласно, и жить дальше в этой стране и в этой среде Э. уже не мог.
В начале июня он просит разрешения на два года выехать во Францию, как раньше, чтобы не потерять советского гражданства, выехали из СССР М. Ростропович, В. Максимов, В. Некрасов. Отказ, зато ответ на поданное в сентябре заявление о выезде по израильской визе пришел с рекордной скоростью — через четыре дня, так что 16 октября Э. с семьей вылетел в Вену, а 25-го прибыл в Париж[3362].
И началась уже не относительно, как в Советском Союзе, а безусловно благополучная жизнь статусного европейского интеллектуала: до 1986 года профессорство в X Парижском университете (Нантер), а после выхода на пенсию путешествия в роли профессора-эмеритуса по университетам Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании, научные и писательские конференции, ведение аспирантских семинаров в Русских летних школах в Вермонте.
Сотни новых друзей, десятки увлекательных международных проектов: Э. руководит изданием сочинений Пушкина в новых французских переводах, деятельно участвует в работе над 7-томной «Историей русской литературы», готовит к печати (вместе с С. Маркишем) роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», печатается едва ли не во всех эмигрантских журналах и составляет антологии (среди которых особенно известен сборник «323 эпиграммы» (1988), и переиздает старые книги, и выпускает новые — «Форма как содержание» (1977), «Материя стиха» (1978, 1985), «Кризис одного искусства: Опыт поэтики поэтического перевода» (1983), «Процесс Иосифа Бродского» (1983), «Симметрические композиции у Пушкина» (1988), «Стихи и люди» (1988), «Там, внутри: Русская поэзия XX века» (1996)…
И все безо всякой вроде бы натуги, что называется, влегкую. «Ну, он, — мимоходом заметила Е. Чуковская, — вообще был ужасно легкомысленный человек, Ефим Григорьевич»[3363]. Так что невольно думаешь: с таким бы легкомыслием, с такой бы работоспособностью да на родине пригодиться.
Увы, вовремя не пригодился. Хотя в 1990-е годы в Петербург не раз приезжал, был, разумеется, восстановлен во всех своих прежних званиях и членствах, уцелевших друзей повидал и книги свои у нас переиздал.
Лучше все-таки, наверное, поздно, чем вообще никогда.
Соч.: Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб.: Академический проект, 2001; Проза о стихах. СПб.: Знание, 2001; Здесь и там. СПб.: Академический проект, 2004; Психопоэтика: «Внутренний человек» и внешняя речь. СПб.: Искусство — СПб, 2005; Переписка за четверть века. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2012.
Я