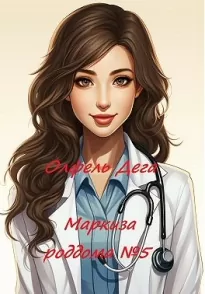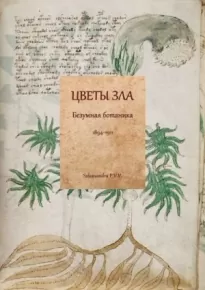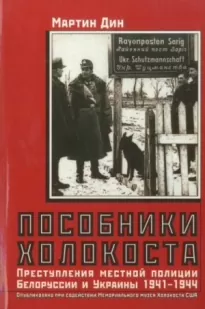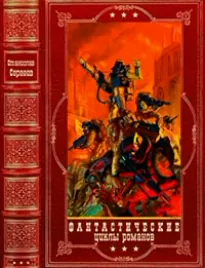Оттепель. Действующие лица
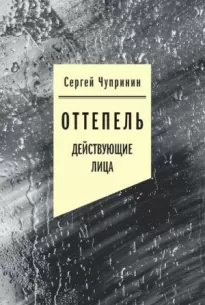
- Автор: Сергей Чупринин
- Жанр: Литературоведение / Биографии и Мемуары / Современные российские издания / Политика и дипломатия / История России и СССР
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Оттепель. Действующие лица"
Щеглов Марк Александрович (1925–1956)
Судьба к Щ. была немилосердна: двух лет от роду заболев костным туберкулезом, он все детство, отрочество и юность провел в больницах, диспансерах, здравницах и лечебницах. И школу закончил только вечернюю, и в Московском университете учился как заочник (1946–1951), лишь последние два года перед выпуском проведя на очном отделении (1951–1953).
Я, — рассказывает В. Лакшин, — вспоминаю его то дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в этой маленькой, узкой, как щель, полутемной комнатке, служившей некогда ванной и заселенной в эпоху коммуналок и «уплотнений», — он сидит, подвернув ноги, на сундуке, с книжкой в руках. То в кабинете профессора Гудзия, где идет толстовский семинарий, и Марк, слегка опоздавший и пристроившийся в укромном углу за этажеркой у самой двери, что-то пишет в зелененький измятый блокнотик. То на скромной студенческой пирушке, где он сразу становится центром дружеского кружка, и гитара ходуном ходит в руках его, и все без слов признают его первенство и в песне, и в шутке, и в завязавшемся вдруг серьезном разговоре. То в редакции журнала, куда он с трудом, громыхая костылями, поднимается по высокой лестнице с рукописью, свернутой в трубочку и болтающейся сбоку на бечевке, чтобы не занимать руки… Но чаще и отчетливее всего я вспоминаю почему-то, как в пору весенних экзаменов он сидит на камнях старой ограды в университетском садике, сняв шляпу, прислонив сбоку костыли, покуривает, слегка задрав голову, с наслаждением щурится на солнце и с добрым любопытством вглядывается в лица тех, кто входит и выходит, хлопая дверью, из здания факультета. Он никого не ждет, не ищет, ему просто радостно смотреть на суетливую, шумную студенческую жизнь и чувствовать себя причастным к ней[3318].
Вполне естественно, что с детства Щ. писал стихи, студентом подрабатывал, сочиняя рецензии на книжные новинки для Совинформбюро и ВОКСа, но по-настоящему с подачи профессора Н. Гудзия дебютировал в сентябре 1953 года, напечатав в «Новом мире» свою дипломную работу «Особенности сатиры Льва Толстого».
И начались три — всего три! — года интенсивной работы в критике.
А время… Вообразите себе сами это еще только оттаивавшее время — когда надо было доказывать, что Достоевский — гений, Блок и Есенин — великие поэты, защищать А. Грина, сражаться с «теорией бесконфликтности» и прочими премудростями социалистического, будь он неладен, реализма, выбирать, «роясь в сегодняшнем окаменевшем говне», книги, истинно стоящие внимания.
Беда Щ. в том, что эти книги были по большей части либо еще не реабилитированы, либо пока не написаны. Нет ни «лейтенантской» прозы, ни «исповедальной», ни «деревенской», ни «городской». И он ищет свое, лишь вызревающее у В. Некрасова и В. Овечкина, С. Антонова и Г. Троепольского, схватывается за «поэзию обыкновенного» в рассказах ныне, увы, позабытого читинского прозаика И. Лаврова.
Ждет, а пока разбирается с тем, что начальство и другие критики выдают за классику, — пишет со всей интонационной почтительностью разгромную статью о бездушном «храмовничестве» в «Русском лесе» Л. Леонова (Новый мир. 1954. № 5), передает во второй выпуск альманаха «Литературная Москва» (1956) трактат-памфлет «Реализм современной драмы», где говорит о пьесах титулованных А. Корнейчука и А. Софронова уже безо всякой почтительности, даже внешней.
И удивительно ли, что А. Твардовский письмом благодарил Н. Гудзия за отрекомендованного им автора, а редактор «Литературной Москвы» Э. Казакевич, получив опасный текст, написал Щ.:
Ваша статья о драматургии кажется мне произведением зрелого ума и нешуточного таланта. <…> При прочтении я испытывал чувство восхищения, давно уже не испытанное мной над критическими статьями. Думаю, что в Вашем лице наша советская литература — может быть, впервые — приобретает выдающегося критика[3319].
Ни антисоветчиком, ни фрондером Щ., разумеется, не был, но инстинкт правдоискательства, который позднее передастся В. Лакшину, И. Виноградову, Ю. Буртину, Ф. Светову, В. Кардину, другим новомировским критикам, настойчиво вел его к несогласию с любого рода казенщиной и фальшью:
Мы — оптимисты, — запальчиво говорил Щ. в статье «На полдороге», — но не будем же становиться ханжами! Еще в окружении «равнодушной природы» умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество и необеспеченность и лишенные света жилища, еще, бывает, приходит к человеку нежданное, негаданное горе и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем…
Нам представляются высшей степенью холодного равнодушия те литературные «манифесты», в которых говорится о «бескрылой», «неудачливой в жизни мелкоте», которая «полезла» на страницы книг, а также брезгливые замечания о загсах и нарсудах, о так называемых «мелких дрязгах быта»… Кто эти великолепные счастливцы, спасенные жизнью даже от того, что они сдержанно именуют «некоторыми неустройствами быта», бестрепетно проходящие мимо «мелких дрязг», отраженных в деятельности столь почтенных учреждений, как загс и нарсуд, не запинаясь рассуждающие о «маленьких людях», о «мелкоте» со «слабыми идейными поджилками», об «обыденной сутолоке» жизни! Каким образом мог сложиться в наши дни этот их барский идеализм?
Первый из строгих юношей Оттепели, Щ. прожил совсем недолго: в Новороссийске, где он в очередной раз лечился, не хватило стрептомицина, чтобы его спасти. Но эта короткая, как высверк молнии, жизнь запомнилась. «Один из талантливейших представителей нового поколения советской литературы, Щеглов был критиком с дарованием сильным и ярким. Большие надежды связывали мы с его именем», сказано в некрологе, подписанном А. Твардовским, К. Фединым, К. Чуковским, Б. Пастернаком, И. Эренбургом, Н. Погодиным, К. Паустовским, В. Кавериным, В. Некрасовым, В. Катаевым, Б. Слуцким, Л. Зориным, иными многими[3320].
А нам остались книги, уже после смерти Щ. заботливо и всякий раз с приращением объема собранные сначала В. Лакшиным (1958, 1965, 1971, 1973, 1987), а уже после его ухода из жизни А. Турковым.
Чем закончить? Наверное, вот этими строками А. Твардовского: «Есть книги — волею приличий / Они у века не в тени. / Из них цитаты брать — обычай // Во все положенные дни. / В библиотеке иль читальне / Любой — уж так заведено — / Они на полке персональной / Как бы на пенсии давно. <…> На них печать почтенной скуки / И давность пройденных наук; / Но, взяв одну такую в руки, / Ты, время, / Обожжешься вдруг… / Случайно вникнув с середины, / Невольно всю пройдешь насквозь, / Все вместе строки до единой, / Что ты вытаскивало врозь».
Соч.: Любите людей: Статьи. Дневники. Письма. М.: Сов. писатель, 1987; На полдороге: Слово о русской литературе. М.: Прогресс-Плеяда, 2001.
Лит.: Лакшин В. Три года — и вся жизнь (Путь Марка Щеглова) // Щеглов М. Любите людей. М.: Сов. писатель, 1987; Огрызко В. Он ломал перегородки // Литературная Россия. 2015. 23 февраля; Чупринин С. Старое, но грозное оружие // Чупринин С. Критика — это критики. Версия 2.0. М.: Время, 2015. С. 9–44.