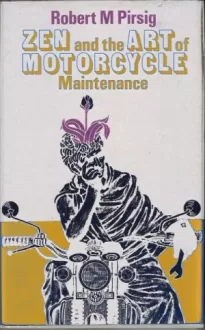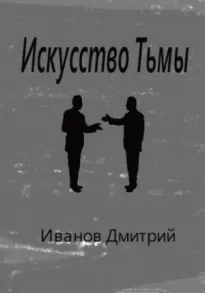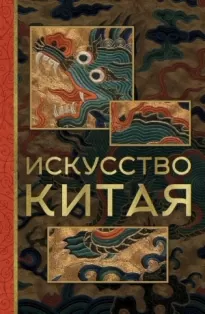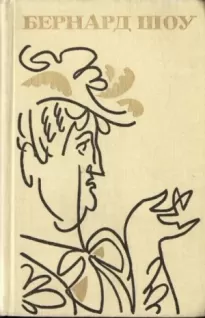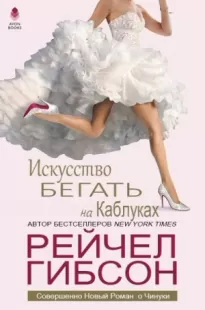Искусство в век науки

- Автор: Арсений Гулыга
- Жанр: Научная литература / Философия / Языкознание
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Искусство в век науки"
* * *
Театр — воплощенный диалог. Не только между действующими лицами. Иногда спорят друг с другом две режиссерские трактовки одной и той же пьесы. Если между ними значительный промежуток времени, может возникнуть диалог эпох. Это открывает перед театром возможности, которых не ведают ни литература, ни кино. Существует знакомый с детства текст, привычное сценическое воплощение. И вдруг — новое прочтение, открывающее иные, остававшиеся ранее не замеченными пласты смысла, ставящие акценты на том, что нас волнует больше всего сегодня.
Когда я смотрел «Гамлета» в театре на Таганке, мне вдруг пришло в голову: а на каком факультете учился принц датский? Шекспир отправил его в университет — случай по тем временам из ряда вон выходящий: престолонаследники получали образование при дворе. Средневековые университеты знали четыре факультета: богословский, медицинский, юридический и философский. Первые три считались «высшими», философский — «низшим». Вряд ли бы король определил на него своего сына. В Гамлете нет ничего ни от священника, ни от медика. Скорее всего он — юрист, знаток права и носитель правосознания.
Гамлет должен покарать убившего его отца преступника — дядю. Но правосудие — не месть, не расправа. Здесь прежде всего нужны улики. Рассказ призрака — не свидетельские показания, скорее материализованное подозрение. Вина должна быть доказана неопровержимо. И Гамлет ведет следствие. Перед нами судебный процесс, беда только в том, что следователь — он же судья — в одиночестве. Не он держит в руках преступника, а преступник держит его в своей власти. Поэтому Гамлет вынужден хитрить, прикидываться умалишенным. Силы неравны. В Эльсиноре, этой преступной клоаке, правосознание обречено. Здесь вершат темные дела, здесь «воздух пахнет смертью». Один неверный шаг, и ты — труп. Гибнет Гамлет, гибнут король, королева, Лаэрт. Смерть, смерть, смерть. И если торжествует закон, то не тот, который установлен людьми для общежития, а иной, возникающий помимо их воли. Ему подвластен и Эльсинор.
Люди ставят перед собой цели, напрягают свои силы и страсти, стараясь их осуществить. Но в результате возникает совсем иное, чего не было в их намерениях, хотя объективно содержалось в их действиях. Размышления над этим обстоятельством привели философов к открытию исторической закономерности, которая прокладывает себе дорогу, как некая равнодействующая миллионов людских стремлений и свершений. Как воплотить эту мысль сценическими средствами? Режиссер вводит в действие нечто непредвиденное, неодушевленное, олицетворяющее собой начало надличное и безразличное к судьбам героев. Это огромное, тяжелое серое полотнище — занавес. Оно движется во всех направлениях вдоль и поперек сцены. Иногда сквозь него бьет луч прожектора, высвечивая причудливую игру теней. За него хватаются, на нем виснут, под ним гибнут, им пытаются манипулировать, а оно идет само по себе, проделывая самые причудливые виражи. Это сама История, равнодушная к человеческим страстям, хотя и влекомая ими. Под конец на сцене остается только это полотнище, совершающее в одиночестве свой последний проход. А из глубины звучит в духе моралите:
Должно быть, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что значит человек,
Когда его заветные желанья
Еда да сон? Животное и все.
Это уже напутствие зрителю, покидающему зал, уходящему из зрелища в жизнь.
К разуму человека, к его способности мыслить, сопоставляя эпохи, и делать для себя жизненно важные, философские выводы апеллировал театр на Малой Бронной в постановке чеховских «Трех сестер»[72].
Пьеса А. П. Чехова проникнута грустным сочувствием к судьбам трех прекрасных женщин и их окружения, людям с неустроенной жизнью, которым невозможно примириться с их существованием сегодня, но и не удается сделать ничего, чтобы их завтра было более радостным. Эта безысходность, поднятая в спектакле до уровня подлинной трагедии, достигается средствами театральной условности. Монологи и реплики героев несут в себе элементы остранения. Актеры размышляют о светлом будущем через двести-триста лет, о красоте труда, о столичной жизни, о справедливости и счастье с явным налетом неуверенности, иногда иронично, иногда неуклюже, иногда с долей стеснения, как бы чувствуя себя неловко от того, что приходится произносить столь высокие слова, как бы цитируя широко известный, хрестоматийный текст. Но это отнюдь не влечет за собой снижения значительности произносимых слов, наоборот, поразительно усиливает их действенность. Благодаря этому приему возникает главное — зритель задумывается о подлинном смысле и цене того, что он слышит, размышляет над тем, каким путем можно осуществить благие намерения.
В наши дни, когда, к примеру, война в Корее, бомбардировки Вьетнама, насилия в Чили сочетались с декларациями о «мире, свободе и справедливости», когда зияет пропасть между тем, что говорят и делают, стало уже невозможным произносить высокие слова без критической проверки их значения, их мотивов и последствий. Режиссер понял это и достиг поразительного результата. Оказалось, что подобная остраненная интерпретация текста раскрывает чрезвычайно глубоко содержание той духовной жизненной драмы, какую переживают герои, возводит ее в ранг социальной катастрофы. Вызывая протест против отрыва слова от дела, показывая воинствующий натиск мещанства, тупости, людской злобы, неумение героев ему противостоять, спектакль требует осознания собственной позиции в любой подобной ситуации от каждого из тех, кто находится в зрительном зале.
Чехов обнажает главную беду, которая грозит миру интеллекта и образованности, — пассивность, инертность. В спектакле на Малой Бронной одно из центральных мест занял Чебутыкин. Полковой лекарь, опустившийся старик, пьяница, он как бы показывает, до какого маразма может дойти человек, удел которого — лишь прекраснодушная болтовня. «Может быть, я не человек, а только делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова; может быть, я не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю», — эти слова в спектакле Чебутыкин выкрикивает под оглушительный грохот музыки. Ночь, в городе пожар, на сцене всеобщее волнение, а Чебутыкин вдребезги пьян, он заводит граммофон и пляшет свой чудовищный канкан. Это кульминация спектакля. Тем более что показана здесь не только глубина падения, но и острота его осознания: Чебутыкпн не просто конченный человек, он мучительнее других переживает никчемность собственного бытия.
Удивительно сложно и психологически тонко выписаны в спектакле образы сестер. Их судьба олицетворяет крушение женственности в бесчеловечном мире. Вот Ирина — молодая, цветущая двадцатилетняя девушка, необыкновенно привлекательная. Ее журчащий смех, гармонирующий с пластичностью ее движений, ее любование жизнью, открытый ожиданию любви мир женщины, невольно притягивает к себе всех. Она пленяет и Тузенбаха, молодые офицеры делают ей подарки, а Чебутыкин вспоминает в ней ее мать — женщину, которую он любил. Эта привлекательность, стремление нравиться должно было бы естественным образом замкнуться на встрече с любимым человеком. Но в пьесе Чехова этого не происходит: Ирина соглашается выйти замуж за нелюбимого ею барона Тузенбаха.
Происходит крушение женского начала, когда последнее до самого конца бескомпромиссно и бескорыстно. Заключительная сцена Ирины с Тузенбахом потрясает зрителя. Барон должен идти на дуэль. Он просит свою невесту сказать «что-нибудь». Слова любимой женщины должны помочь ему в трудную минуту. Ирина, чуткая и умная девушка, это прекрасно понимает, более того, она ему горячо сочувствует, но она не знает, не умеет найти тех самых единственных слов, которые дано знать любящей женщине. Поэтому она в панике, буквально в ужасе кричит: «Что? Что сказать?!! Что?!!» Здесь, в этих словах она уже одинока до того, как был убит ее жених. И вместе с тем в этой сцене остается по-прежнему цельным высокое призвание женщины — быть бескорыстной в своей женской привлекательности. Что стоило ответить ей, как в постановке МХАТа, с оттенком грусти, элегически, где подразумевалось бы: «Ну, что тут говорить, что? Ведь я, прекрасная женщина, которой все восхищаются, позволяю себя любить, ты должен быть доволен и этим…» И Тузенбах ушел бы со сцены почти умиротворенным. В новом спектакле сцену покидает потерянный человек.
Женская судьба другой сестры, Маши, не менее трагична. В спектакле МХАТа Маше невозможно не полюбить Вершинина. Обаятельный высокий красавец, в белоснежном кителе, в блеске золотых погон и пуговиц, прибывший из города мечты, Москвы, красиво размышляющий о красивом будущем, Вершинин неотразим. И Маше, самой красивой и самой своехарактерной из сестер, ничего не оставалось, как покориться этому обаянию. Такая трактовка темы оставляла некоторую неясность в поведении мужа Маши — учителя Кулагина. По логике вещей, он, жалкий провинциал, недалекий человек, должен был быть раздавлен великолепием своего соперника и красивостью романа его жены. Однако он пытается «хорохориться», зачем-то уверяет себя и других, что у него все в порядке, у него есть работа, орден и Маша остается его женой, поэтому «он доволен, он доволен». Что это — крайняя тупость пли лицемерие — оставалось неясным, и вместе с тем ни то, ни другое объяснение не удовлетворяло.
В спектакле на Малой Бронной с самого начала Вершинин производит впечатление человека неблагополучного, с неустроенным бытом и всем своим жизненным укладом (у Чехова — «всю жизнь болтался по квартирам, с двумя стульями, с одним диваном и печами, которые вечно дымят»); его философствования о жизни и прекрасном будущем звучат как-то неуклюже, странно. Он вызывает интерес и симпатию сестер не блеском речей и не внешним обаянием. В первый момент это общность прошлого (он — москвич!), а затем понимание у Ольги и глубокая жалость у Маши — сокровенная основа истинной любви для многих и многих женщин. Недаром в русском народном языке слово «желать» сочетается со словом «жалеть». Ее любовь — «жаление» глубоко несчастного человека — сама по себе несчастна. В свете этого становится понятной позиция Кулагина, который занимает с соперником как бы равные жизненные позиции, может быть, он даже более благополучен: у него есть работа, орден и Маша остается его женой. Здесь перед нами уже не тупость и не лицемерие, а реальные, хотя и жалкие попытки самоутверждения.
Спектакль во МХАТе приподнимает сестер над зрителями, спектакль на Бронной опускает сестер до уровня зрителей, но не в дурном значении слова: происходит не обеднение образов, а приобщение их к жизненному опыту современности. Один спектакль не противостоит другому в смысле большего или меньшего соответствия авторскому замыслу. Просто режиссер нашел иное сценическое решение, в результате чего возник диалог.
Оформление спектакля, его ритм, использование сценического пространства подчеркивают глубокий смысл пьесы. Декорации достаточно лаконичны, но вместе с тем не настолько условны, чтобы лишить спектакль исторической достоверности. На авансцене справа — большие часы без стрелок, деталь, казалось бы, символическая, и все же, как и другие предметы оформления, указывающие на явные приметы времени, они выдержаны в стиле «модерн» начала века, дерево с золотыми листьями (а может быть, это вовсе не дерево, а всего лишь вешалка) также напоминает об этом. Серые платья сестер, серая гамма оформления вызывают массу ассоциаций, идущих и от представления о «серости жизни» и в еще большой степени от впечатлений о чем-то печально-прекрасном.