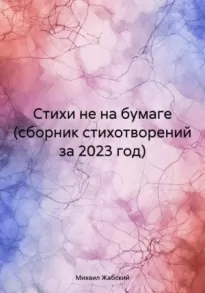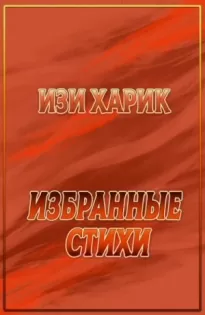Это нужно живым. Психология и педагогика военно-поисковой работы
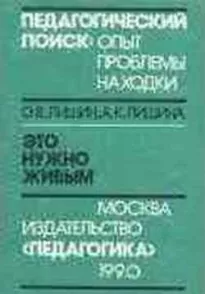
- Автор: Олег Лишин
- Жанр: Психология
- Дата выхода: 1990
Читать книгу "Это нужно живым. Психология и педагогика военно-поисковой работы"
О том, что настало время открыто взглянуть и на такие противоречия жизни, свидетельствует трагедия военных событий в Афганистане. В прессе описана ситуация, когда солдаты стояли перед выбором: выполнить приказ командира об уничтожении не просто военнопленных, но гражданских лиц, женщин и детей, в отношении которых даже не было улик об их принадлежности к душманам, или отказаться от этого. Приказ был выполнен, и за это солдат, его исполнитель, впоследствии получил по суду срок: 5 лет заключения в колонии строгого режима. Ситуация противоречива. С одной стороны, "преступление против нравственности —м есть преступление", с другой стороны, "приказ есть приказ" (отдавший его человек по ранению перестал быть дееспособным). Когда-то, до 1924 г. в Красной Армии рядовой мог отказаться выполнить приказ командира, если считал его преступным. Со временем установки изменились и приблизились к той морали, которой защищались от обвинений в преступлениях против человечности деятели гитлеровского рейха: "Я солдат, я выполнял приказ!" В разных странах мира существуют различные подходы к этой проблеме: где-то приказ свят, где-то у подчиненного остается право на критическое к нему отношение, вплоть до отказа его выполнения. Похоже, что наше правосознание находится сегодня на распутье. Во всяком случае противоречие между традицией армейской дисциплины и решением суда — налицо. (ЛГ. 1989. 15 февр.)
Еще один сюжет той же проблемы — судьба генерал-лейтенанта М.К. Шапошникова. В 1962 г. он отказался выполнить приказ генерала И.А. Плиева танками атаковать колонну рабочих-демонстрантов, шедших из поселка в Новочеркасск. В этом случае погибли бы тысячи людей. Расстрелу мирных жителей на площади перед горкомом партии он помешать не успел и позже писал, обращаясь к XXVII съезду партии: "Что же касается меня самого, то я и тогда и поныне продолжаю себя казнить за то, что в июне 1962 г. не сумел помешать кровавой акции".
Поисковики, разыскивающие в лесах, полях, горах и болотах останки воинов Красной Армии, самим ходом событий сталкиваются с последствиями острейших противоречий военного времени, связанных с гибелью людей. Важнейшим из этих противоречий мы считаем проблему использования людей в качестве средства для достижения какой-либо цели, поставленной не ими, а кем-то за них. Такого рода использование человека советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн считал основным нарушением этической, нравственной жизни. С этой точки зрения вся война представляется грандиозной безнравственной ситуацией, поскольку человеческая жизнь в условиях войны есть главным образом средство решения самых разнообразных задач, в том числе и средство выиграть время, произвести наиболее сильное впечатление на противника и т.п. На войне солдата не спрашивают, согласен ли он рискнуть жизнью для достижения цели, поставленной командованием, ему просто приказывают. Более того, на этом пути возможны, как и везде, трагические ошибки, карьеристские соображения и просто человеческая недобросовестность. Какое-то число людей гибнет неоправданно, и к этому на войне тоже приходится привыкать, как и к "случайной" гибели от огня противника. Очень много удачи и мужества нужно человеку, чтобы стать средством не только в руках командования, но и в своих собственных — средством решить боевую задачу, средством помочь своим товарищам, средством спасти чужую жизнь ценой своей...
Памяти старшего лейтенанта Михаила Окулова, ярославцаРакета
Человек на фронте — как ракета.
Вспыхнет на минуту и умрет, —
но ее мерцающего света
хватит,
чтоб фланкирующий дзот
брызнул торопливо вдоль траншеи
трассами кинжального огня,
и фашисты, втягивая шеи,
бросились в сугробы, гомоня;
хватит,
чтоб сержант, вбежав в землянку,
торопливо выкрикнул — В ружье! —
и бойцы метнулись от времянки,
похватав оружие свое;
хватит,
чтобы первую гранату,
выхватив из ниши второпях,
бросить наобум вперед куда-то,
чтоб прогнать растерянность и страх,
хватит,
чтоб на всем переднем крае
стало от стрельбы светло как днем, —
а в снегу ракета догорает
навсегда стихающим огнем. Ю. Белаш
За все на войне платят человеческими жизнями: от этого не уйти. Но и в этом мире есть свои проблемы. Для одного командира в этом противоречии — главная трагедия войны. Б.А. Бялик приводит случай, когда боевой комбат, старший лейтенант И.И. Леонов, после того как ему пришлось, окруженному, отстреливаться с чердака дома, записал в дневнике: "Вот было только что пять живых людей. Они уже никогда не увидят неба, будут лежать, пока их не зароет наша похоронная команда. А родным сообщат, что они пропали без вести, и те будут долго ждать их... Война!" Пятеро убитых были немецкими солдатами, но для него они были еще и людьми.
Другой командир не жалеет ни своих, ни врагов: для него все люди — пешки в кровавой шахматной игре. Свидетельства такого подхода особенно ярко проявились в историях выживших после легендарного боя у Дубосекова панфиловцев, и прежде всего в истории Даниила Кожубергенова, связного политрука В. Клочкова. Тяжело контуженный Даниил был подобран после боя путевым обходчиком, пытался перейти линию фронта, был взят в плен немецким патрулем, бежал и вскоре примкнул к одному из отрядов кавалерийского корпуса генерала Доватора. Весной 1942 г. кавалеристы были отведены из немецких тылов на отдых и переформировку. Из газет Кожубергенов впервые узнал о том, что он — один из 28 героев-панфиловцев. Но вскоре, а именно 18 мая того же года, в высокие сферы поступила бумага из его бывшей дивизии, информирующая о том, что Даниила среди награжденных не было, а был Аскар Кожубергенов... Самого же Даниила арестовали и в Таганской тюрьме различными методами долго "убеждали", что он не участвовал в бою у Дубосекова. Наконец "убедили". Снова фронт подо Ржевом в штрафном батальоне, тяжелое ранение, инвалидность и долгие годы после войны в попытках доказать, что не Аскар, а именно он — Даниил участвовал в бою у Дубосекова. Однополчане его признали, командир взвода героев-панфиловцев Иван Добробабин тоже свидетельствовал в пользу Даниила, о нем писала "Комсомольская правда" 20 апреля 1966 г., о нем рассказывало Алма-атинское и Центральное телевидение. Но все было тщетно. Министерство обороны Союза в этой своей бесславной обороне стояло до конца. И выстояло. Даниил Александрович несколько лет назад умер, так и не добившись признания. После 1966 г. об этой истории вновь рассказала газета "Московская правда", уже в 1989 г. (7 мая).
Не исключено, что в истории с солдатом Кожубергеновым определенную роль сыграло еще и то обстоятельство, что именно в мае 1942 г. панфиловскую дивизию принял пятый по счету командир генерал-майор С.С. Чертогов. Если верить воспоминаниям знаменитого панфиловца, комбата-1 Баурджана Момыш-Улы (см.: Нуршаихов А. Истина и легенда. Алма-Ата, 1980), генерал не любил "панфиловщину" с ее "демократическими правами", относился без уважения к старым боевым заслугам воинов дивизии, не понимал и не ценил ее традиций и национальных особенностей. Вполне вероятно, что на такой психологической почве легко могла произойти история "солдата Киже" XX в. — мифического Аскара, вытеснившего в бумажном бою реального бойца панфиловской дивизии с его кровью завоеванных позиции. Во всяком случае, все происшедшее стало возможным только потому, что военные чиновники (какие же это офицеры!) видели в живом человеке только средство, условную фигуру, если хотите — вещь, которой можно пользоваться в своих целях, а можно и сбросить ее с доски. И уж никак не целью был для них человек Д.А. Кожубергенов. Какое-то значение в происшедшем имело, по-видимому, чье-то стремление оставить самовольно оживающих солдат в рамках легенды, т.е. мертвыми, а не живыми. От мертвого неожиданностей ждать не приходится. Живой непредсказуем. Мертвый идеально предсказуем. Он — символ, он не попадет в плен, не может, голодный и оборванный, пробираться к своим через заснеженные леса. Он — послушная художнику фигура на плакате, не подлежащая анализу.
Познание кровавой диалектики войны приводит нас к анализу и пониманию очень суровых страниц нашей истории. Речь пойдет о войне в Карелии, о походе 1-й партизанской бригады И.А. Григорьева. В июле 1942 г. бригада в составе шести отрядов вышла в рейд по тылам противника. За 57 дней она прошла 650 километров по лесному бездорожью, приняла 26 боев, пять раз прорывалась через вражеские заслоны, сражаясь против противника вчетверо, впятеро, а то и в 10 раз более сильного. Из 597 партизан, ушедших в рейд, назад вернулось немногим более 120 человек. Партизаны сражались умно и героически, в условиях лесной войны они вновь и вновь ставили в тупик таких ее признанных мастеров, как финские солдаты. "Партизаны, — говорилось в одном из оперативных документов финской армии, — не обычные фронтовики. Это хорошо обученные, отборные люди. По их действиям можно предполагать, что каждое задание ими хорошо проработано перед его выполнением. Документов у убитых ни разу не найдено. Особенно надо отметить хорошую подготовку при преодолении препятствий, применение к местности. Они хорошо избегают возможности быть обстрелянными даже в тех случаях, когда они обнаружены и по ним открыт огонь. Партизаны действуют чаше всего дерзко. Офицеры находятся почти всегда впереди".
Эти же солдаты, вернувшись из дальнего похода, могли самозабвенно петь под гармонь. "В полусвете мягко и ласково поблескивали счастливые глаза, — пишет партизанский писатель и летописец бригадного похода Д.Я. Гусаров, — на потных, растроганных лицах — блуждающая улыбка, то ли гордости, то ли стеснения, давно отставлены в сторону котелки и кружки, и не было для нас важнее дела, чем складно и дружно довести песню до конца" (Гусаров Д.Я. Партизанская музыка. М., 1988. С.175)
А война испытывала их по самому большому счету. В бригадном походе некоторые даты стали для партизан трагическими. Прорыв из окружения на высоте 264,9 стоил жизни больше чем 100 бойцам, тогда же погиб командир бригады Иван Григорьев; при прорыве через дорогу Паданы—Кузнаволок погибло около 60 человек, на высоте 195,1, о которой наши поисковики в 1987 г. сложили песню, было убито больше 110 партизан, в их числе практически весь отряд "Мстители" со своим командиром Александром Поповым и его женой санинструктором Машей Сидоровой, которая ждала ребенка. Народ в бригаде был молодой, в основном 19-, 18- и даже 17-летние ребята. Немногим было больше 24, самым старшим — 36 и 38 лет.
Среди бойцов бригады было 46 девушек-сандружинниц. Мужчины-партизаны берегли их, насколько это было возможно в боевых условиях. "Все они пользовались одинаково теплым вниманием с нашей стороны, вспоминает Д.Я. Гусаров, — о них заботились, им угождали, их оберегали даже от заглазного дурного слова. Но малейший знак их ответного внимания молодые парни воспринимали по-особому". После похода в живых осталось меньше 20 девушек. Когда наш отряд работал на высоте 195,1, на ребят произвело огромное впечатление, что среди груды партизанской обуви, лежащей на местах, где было собрано больше всего останков, попадались ботинки и сапоги 35-36-го размера. "Надо же, совсем, как у нас", — говорили наши девчата, прикладывая военную обувь к своим кедам, и в этом тоже звучало сопоставление судеб.