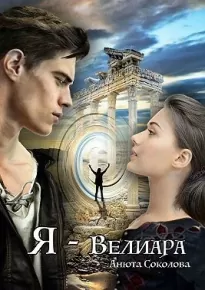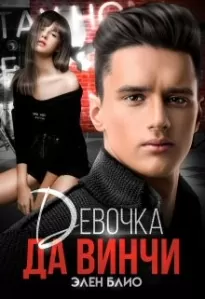Любимая улица

- Автор: Фрида Вигдорова
- Жанр: Роман
Читать книгу "Любимая улица"
— Да, — ответил он, — очень интересно.
— Не могу ли я быть вам полезной?
— Пока нет, благодарю вас.
— Но, написав, надеюсь, покажете?
— Конечно, если прежде не погибну в единоборстве со словом «который».
— Ну-ну! — сказала она. — Желаю успеха!
И вот он снова сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Дети спят. Тишина. Никто не мешает. Пиши. И он пишет: «В разделе третьем уголовного кодекса есть примечание, простое и ясное. Оно гласит…» Нет, не так. Сейчас, сейчас, что-то такое промелькнуло очень важное. Ах, да. Зачеркнув написанное, он складывает новую фразу: «Велика ответственность каждого человека перед теми, кто на фронте…»
Нет, опять не то. Откуда берутся эти казенные слова? Ведь он никогда так не говорит. Почему же сейчас они опутали его, и он никак из этой паутины не вырвется: «дети фронтовиков», «великая ответственность», «примечание гласит»… Нет, дело не в словах, а в том, что он — бездарность. Ведь он знал, что ему не следует браться не за свое дело. Он был прав, когда сказал Леше, что не поедет в Подгорск. Надо было, чтоб туда поехала Лаврентьева. Или Голубинский. Или кто-нибудь еще. Он представил себе Голубинского в комнате у Кононовых, и эта картина ему не понравилась. А если Лаврентьева? Вот она вошла, поздоровалась с Верой Григорьевной. Нет, не то. Это он, Поливанов, был в доме на Любимой улице. Он, а не Голубинский, не Лаврентьева. Итак, была не была, начнем: «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том, что двое подростков…» Проклятье! Поливанов скрипнул зубами и отложил перо. И вдруг сзади его обняли за шею. Он прижался щекой к Сашиной руке.
— Я не слышал, как ты вошла.
— Я давно уж тут и смотрю, как ты маешься.
— Только зря ездил. Мне не написать.
— Не правда, напишешь. Вот послушай. Представь себе: ты приехал из Подгорска, а меня нет.
— Где же ты? Я не люблю, когда тебя нет.
— Я уехала на Северный полюс. Или в Ленинград. Или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжаешь, а меня нет. Что ты делаешь?
— Я сержусь.
— Верно. Ну, а потом?
— Потом я ору на всех подряд, расшвыриваю все, что попадает под руку. Дети плачут, а я проклинаю вселенную и все ее окрестности.
— Все верно. Ну, а потом?
— Потом я пытаюсь дозвониться тебе.
— На Северный полюс? Нет, ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгорске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. «Дорогая Саша, я приехал в Подгорск поздним вечером. Темень. Где же здесь Любимая улица? Где дом Кононовых?» Ну, зачем мне сейчас повторять все, что ты нам рассказывал? Потом мы вычеркиваем «Дорогую Сашу» и «Целую тебя», и остается статья.
— Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк.
— Митя, честное слово, я тебе дело советую. Вот попробуй. Ведь ты не станешь мне писать… — Она перегнулась через его плечо и прочитала:
— «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том…»
Поливанов прикрыл ладонью начатую страницу.
— Ложись. Уже поздно, — сказал он хмуро. — А я еще поколдую.
Он работал всю ночь. Он мысленно повторил весь путь от вокзала до города, снова едва не упал в овраг, снова услышал, как течет в темноте река и стук своих башмаков по булыжной мостовой. Он вспомнил, как женщина сказала: «А я было подумала…» А что она подумала? А вдруг… вдруг добрая весть. Вдруг то извещение было ошибкой. Вдруг…
Он рассказал о заплеванной комнатке с низким потолком и о бухгалтере с его унылым носом, он написал про чистенький кабинет директора Промкооплеса и про Тихонова: «Вы на что намекаете? Вы хоть из Москвы, и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова».
Про бухгалтера, директора, Тихонова написалось легко. Про Сергея, про Колю писать было куда труднее. Опять все слова взбунтовались. Поливанову почудилось, что он пишет не чернилами, а патокой, сладким сиропом. Откуда-то выскочила «тонкая шейка» и даже «ясные ребячьи глаза». Брр!.. Он в бешенстве перечеркнул страницу и начал все сызнова. Хорошо ли, плохо ли, но он написал свой очерк. И даже примечание из третьего раздела уголовного кодекса нашло в очерке свое место: как оно и было, его помянула молоденькая защитница. И о том, как они с Колей ходили по городу, было сказано. Поливанов не говорил за бухгалтера, директора, Тихонова, они сами говорили — директор вкрадчиво («Ах, товарищ, товарищ!»), Тихонов напористо, а бухгалтер будто читал протокол. И непреложно ясно было, кто вор.
Под утро он разбудил Сашу и прочитал ей свою статью.
— Спасибо, — сказала она. — Чудесное письмо.
Это было, наверно, единственное в стране учреждение, где машинописным бюро заведовал мужчина. Ростом он не вышел и весь был очень маленький: маленькое личико, маленькие ручки и огромные круглые очки. Но маленькие ручки с бешеной быстротой стучали по клавишам, с ним не могла состязаться ни одна машинистка. Он печатал, не глядя на клавиши, и при этом еще делал замечания машинисткам, брал телефонную трубку, отругивался, объяснял, что у него все материалы срочные и он ни для кого не намерен делать исключения. Если ему диктовали, он то и дело вопил:
— Быстрее! Еще быстрее! Быстрее, вам говорят!
В редакции он назывался машинист. Все машинистки ненавидели его, боялись и уважали: он печатал не только с чудовищной, неправдоподобной быстротой, но безупречно грамотно. Отдавая перепечатанную статью, он обычно говорил автору несколько слов. Чаще всего это были неодобрительные слова:
— Сложные периоды у Гоголя получались лучше, чем у вас, не скрою. Обратите внимание на последний абзац пока его читаешь, может пройти товарный состав в сорок вагонов.
Или:
— Что это у вас «распоряжение», «удивление», «разъяснение» — «ение»! Акафист какой-то, а не статья.
Он терпеть не мог Голубинского («Написано красиво, но смысла ни на грош») и любил Лаврентьеву («В том, что она пишет, всегда есть зерно»).
Как ни странно, он хорошо относился к Поливанову. Он сам ему печатал. Не хвалил его фотоочерки, но и не ругал.
Сейчас он взял очерк Поливанова, перелистал его, поднял брови:
— Подвал? Гм… Ладно, приходите через час.
Дверь приотворилась, и кто-то на ходу крикнул:
— Поливанова в секретариат к Савицкому!
Савицкий был ответственным секретарем редакции. Когда-то хороший журналист, он давно уже ничего не писал.
— Давно не писал и уж наверно никогда ничего не напишу, — с грустью сказал он однажды Поливанову. — Секретариат съел меня со всеми потрохами. Но, — прибавил он, — если он мог меня съесть, то туда мне и дорога. Вот Марину не заставишь сидеть в редакции, ей нужны жизненные просторы — ездить, писать. А я… Так, видно, до конца буду протирать свой ширпотреб на этом окаянном месте.
Но он любил это окаянное место. Любил редакцию, ревновал к каждой интересной статье в другой газете. Никто лучше него не учил практикантов, никто пристальней не приглядывался к новым людям, пришедшим в редакцию. И это он сказал Поливанову, когда тот принес в редакцию письмо, найденное в чемодане майора Кононова:
— Вот вы и поедете. Давно пора. Не спорьте. Поедете.
Зачем я ему понадобился? — думал Поливанов, отворяя дверь в кабинет Савицкого. Савицкий сидел над макетом полосы и что-то вымерял строчкомером. Он поднял усталые глаза и жестом пригласил Поливанова садиться.
— Это не очерк, — сказал он Глебову, сотруднику отдела науки, — не очерк, а восемь страниц Нагорной проповеди. Понятно? Верни в отдел.
Глебов проворно схватил какие-то гранки и умчался. Савицкий подпер щеку ладонью и сказал:
— Поздравляю, дорогой друг, с боевым крещением.
Что он мелет? Он ведь еще не читал статьи?
— Я не о статье, — сказал Савицкий, словно угадав его мысли. — Я о другом. Поздравляю с первой анонимкой. В редакцию пришло письмо, в котором сообщается, что вы родственник Кононовых.
— Очень интересно.
— Да, конечно. Это правда, что вы остановились у них?
— Правда.
— Послушайте, но ведь это журналистская азбука: нельзя останавливаться у людей, которых собираешься защищать.
— А если собираюсь ругать?
— Тоже нельзя. Гостиница — вот резиденция журналиста. Нейтральная зона. Независимость. Запомните это раз и навсегда.
— Есть запомнить.
— Идите и больше не грешите.
— Есть не грешить.
— В письме говорится, что вы младшего Кононова таскали по городу на руках. Было дело?
— Было.
— А зачем, собственно?
— Мальчишка устал. Почему не взять его на руки?
— Да зачем он за вами поплелся?
— Знаете что, Леонид Евгеньевич, вот скоро очерк придет с машинки, прочитаете и поймете. Или не поймете, это уж как выйдет. А объяснять я вам ничего не могу.
…Поливанов послонялся по коридорам, забрел в читальню, посмотрел свежие журналы. Ровно через час он заглянул с порога в машинописное бюро.
— Десять страниц, — сказал главный машинист, — и доложу вам, очень толково написано. Зацепили.
Поливанов взял очерк, отыскал пустую комнату и стал читать. То ему казалось: хорошо. То вдруг он непреложно понимал: из рук вон плохо. Одно только он знал твердо: может, нельзя журналисту останавливаться у людей, которых он хочет защищать, но если бы он зашел к Кононовым, чтоб, как говорят, «проверить факты», он ничего не мог бы написать. Надо было там пожить. И посидеть с ребятами у печки. И походить с Колей по городу. И поговорить с Сергеем в затихшей комнате. «Выручите?» — услышал он снова. «Выручу». Не будь всего этого, он не написал бы очерка, нет, не написал бы. А хороший вышел очерк или плохой, этого он не знал.
Очерк напечатали. Держа в руках газету, Поливанов испытывал чувство, похожее на то, с каким впервые взял на руки новорожденную Катю: это мое? Неужели это незнакомое, непонятное — мое?
На летучке его очень хвалили. Критиком был Голубинский, и он не пожалел слов: «талантливо… глубоко… живописно… видишь людей… слышишь страстный, заинтересованный голос публициста».
— В редакции появился новый талантливый очеркист, надо помочь его росту.
Все это было не очень приятно. Если тебе тридцать шесть, то неловко слушать, как говорят, что ты молодой, растущий и что тебе надо помочь. Но все это было забыто, когда в газете была опубликована маленькая заметка «По следам наших выступлений» и читатель узнал, что очерк сделал свое дело: ребята оправданы, судимость с них снята. Поливанов набрал домашний телефон:
— Саша, ты видела?
— Еще бы!
— Ты рада?
— Еще бы! Приходи пораньше.
— Постараюсь.
Поливанов стоял у окна. Далеко внизу сновали автомобили, трамваи, троллейбусы. Шли маленькие пешеходы — кружились, сталкивались, расходились: муравьи, да и только.
Поливанов смотрел на все это и думал: оказывается, у счастья есть вкус, совсем незнакомый, прежде не испытанный.
Разве он раньше не помогал людям? Помогал. Тебе нужны деньги? Бери, не жалко. Ночлег? Приходи, ночуй. Нянька, накорми! Совет? Нет, советов не даю. Советчику первая оплеуха. Приходилось ему вступаться за людей? Приходилось. Мог разнять драку, а заодно дать по морде кому следовало. Мог сцепиться с начальством, если начальство упражняло свою властность на ком-нибудь безответном. Ну что ж, вступался за людей. Так почему же… Он услышал, что в комнату кто-то вошел. Обернулся и увидел Лаврентьеву.