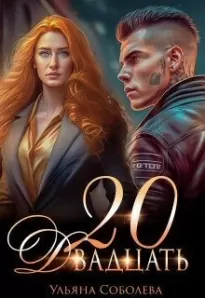Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие…
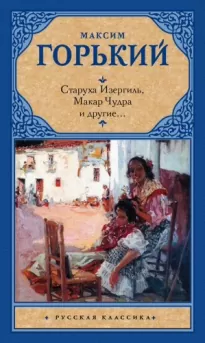
- Автор: Максим Горький
- Жанр: Русская классическая проза / Драматургия / Классическая проза ХIX века
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие…"
XVI
Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я – на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло, лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.
– Эх, высока нынче вода, чёрт ее возьми! Задержит она работы, – ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.
– Тише! – испуганно кричит он. – На фонарь едем!
Справился с лодкой и ругается:
– Ну и лодку дали, подлецы!..
Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо – ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку – надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном, – и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его, – в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.
А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, – город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.
Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.
Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, всё вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, – наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.
Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.
Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:
– Это – ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит – нет ли где воров? А нет воров – сам ворует…
Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне Волга и Ока слились в огромное озеро; вдали, на мохнатой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь – точно на забытом кладбище.
Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев, – хозяин раздраженно удивляется:
– Этакая подлая лодка!
– Да вы не правьте.
– Как же можно? – ворчит он. – Если в лодке двое, то всегда – один гребет, другой правит. Вот – смотри: Китайские ряды…
Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим…
– Ерунда, – говорит хозяин, указывая на ряды. – Кабы мне дали строить это…
Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.
А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы…
Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит:
– Скушно, Пешков! Скушно. Образованных людей – нет, поговорить – не с кем. Захочется похвастать – а перед кем? Нет людей. Всё плотники, каменщики, мужики, жулье…
Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:
– Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво – приятное занятие, а к сигарам – не привык еще! Накуришься, жена ворчит: "Чем это от тебя пахнет, как от шорника?" Да, брат, живем, ухитряемся… Ну-ка, правь сам…
Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше, китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.
– Не попал, – без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.
– Ты как насчет девчонок – разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся…
Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кве-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.
В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:
Море синее,
Море бурное…
Скука смертельная, должно быть, это синее море…
– Ночей не спал, – говорит хозяин. – Бывало, встану с постели и стою у дверей ее, дрожу, как собачонка, – дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я – не боялся, да…
Он говорил задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье можно надеть еще раз или нет?
– Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: "Иди, дурачок…"
Я много слышал таких рассказов, надоели они мне, хотя в них была приятная черта, – о первой своей "любви" почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал: это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо.
Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно:
– А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тут та-кого? А не расскажешь! Вот история…
Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я, – в этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой, холодной воде.
– Первое – не женись рано! – поучает он меня. – Женитьба – это, брат, дело громаднейшей важности! Жить можно где хочешь и как хочешь, – твоя воля! Живи в Персии – магометашкой, в Москве – городовым, горюй, воруй, – всё можно поправить! А жена – это, брат, как погода, ее не поправишь… нет! Это, брат, не сапог – снял да бросил…
Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмурив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал:
– Н-да, брат… Гляди в оба! Положим – ты во все стороны гнешься, а всё прямо стоишь… ну, однако – всякому свой капкан поставлен…
Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой.
– Тише греби, – шепчет хозяин, направляя ружье в кусты.
Застрелив несколько тощих куликов, он командует:
– Едем в Кунавино! Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался…
Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло огромной птицы, всё в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет всё на ней. Всё вокруг движется бодро и надежно, быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов; на плотах крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую встречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика – один в красной рубахе – и поют песню; слов не слышно, но я знаю ее.
Мне кажется, что здесь, на живой реке, я всё знаю, мне всё близко и всё я могу понять. А город, затопленный сзади меня, – дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.
Досыта насмотревшись на всё, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу, – издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать всё, чего захочешь.
Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, – эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо всё, о чем он кротко благовестит.
Читаю "Бурсу" Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.
Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, – едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.
"Мертвые души" я прочитал неохотно; "Записки из мертвого дома" – тоже; "Мертвые души", "Мертвый дом", "Смерть", "Три смерти", "Живые мощи" – это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. "Знамение времени", "Шаг за шагом", "Что делать?", "Хроника села Смурина" – тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.
Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, – немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, – этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.
По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сестры, подростки; курносый гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, – это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им – они учатся!
Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня – мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности – очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами – с луковицей.