Обратный билет
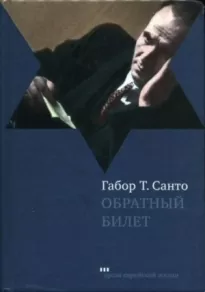
- Автор: Габор Т. Санто
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2008
Читать книгу "Обратный билет"
4
За день до Рош а-Шона[3] он сидел в своем кабинете при кафедре, и вдруг его охватило волнение — такое же, как в былые годы, перед праздниками, когда время невероятно ускорялось и задачи, которые предстояло выполнить, казались все более трудными, до стремительно и грозно близящихся Дней раскаяния[4] почти невыполнимыми… Сейчас, однако, делать ничего не надо было; возможно, поэтому у него появилось ощущение, что ему чего-то не хватает.
В последний раз он переживал подобное состояние более сорока лет назад: перед каждым большим праздником вся семья была немного взбудоражена, словно перед серьезным испытанием. Что с того, что из года в год подготовка шла одинаково, все делалось вовремя и в соответствии с четкими правилами: в эти дни ими овладевало некоторое беспокойство, словно они боялись упустить что-то важное. Можно было не сомневаться, что лихорадочное напряжение это в конце концов закончится ссорой.
Дом их в городке Таполце был весь в суете: сестры помогали матери в закупках, в готовке, отец же с рассвета до позднего вечера горбатился в крохотной, два на два метра, сапожной мастерской, чтобы до праздника успеть выполнить все заказы. За работу он брался сразу после утренней молитвы; в те дни он трудился иной раз по шестнадцать часов в сутки, если даже сроки не поджимали. Человек он был простой, но с быстрым и цепким умом; если он и кривил иногда душой, то не в ущерб другим, если и допускал грехи, то только в мыслях. И наказывал себя за них тяжким трудом, который служил ему и искуплением, и способом примирения с собственной совестью. У него было много дочерей и всего один сын, его единственная надежда; он хотел обеспечить сыну человеческое существование, чтобы тому не пришлось сидеть в полутемной каморке, чиня чужую обувку. «Если у него есть способности, пускай учится. Пускай набирается всяческих знаний, не только религиозных, пускай едет в Пешт, если хочет. Пускай будет настоящим человеком и настоящим евреем; если станет неологом, тоже пускай, лишь бы не горбатиться всю жизнь над этими чертовыми колодками», — рассуждал он однажды вечером, сидя за столом, после рюмки, а может, двух сливовой палинки, и скорее убеждая себя, чем споря с женой. Тихих возражений матери сын из соседней комнаты не мог разобрать, но сердитый голос отца слышал четко. «А если и осудят меня за то, что сын бреется и носит пиджак, то пускай, подумаешь, буду в другую синагогу ходить!» — повысил голос сапожник. До тех пор сын никогда не видел его пьяным…
Воспоминания вдруг хлынули из глубин сознания, захлестнули его. Профессор потянулся к телефону, чтобы позвонить жене; но рука с трубкой повисла в воздухе.
Он хотел поделиться с ней теми смутными чувствами, что так неожиданно спутали ему весь вчерашний день; но понял, что не в состоянии найти слова, которые скажет ей. Ей, кого он ценит и любит; ей, кто заменил ему всех, кого он потерял, и помог вновь найти самого себя; ей, кто был рядом с ним в годы страха, когда они не знали, кому угрожает бо́льшая опасность: ему ли, одному из немногих молодых преподавателей в университете, кто еще не состоял в партии и не вступал в нее вплоть до тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, или ей, после Освобождения с энтузиазмом и пламенной верой участвовавшей в коммунистическом движении, где никто не спрашивал, какой ты национальности и какую веру исповедовали твои родители, движении, которое собиралось раз и навсегда зачеркнуть прошлое, отряхнуть его прах с наших ног, и потому ей казалось, что она нашла свое место в мире; это потом выяснилось, что она лишь сменила одни путы на другие. Сколько раз, в пятьдесят первом — пятьдесят втором, она приходила в слезах, после партсобраний с унизительными разбирательствами, вынесением строгих выговоров и исключениями, и почти в истерике твердила: с нее довольно, довольно, не желает она больше топтать жизнь других людей…
Он положил трубку на рычаг. Сейчас ему нечего было сказать жене. Во всяком случае, ничего такого, что было бы для нее приемлемо и понятно: ведь если он сам себе не может объяснить, что чувствует, то что он может сказать жене, для которой еврейство — это всего лишь то (как она сообщила ему сразу после их знакомства), из-за чего была истреблена ее семья, из-за чего были убиты ее первый муж и ее ребенок.
«Кал ве-хомер» — вдруг вспомнился ему один из основных талмудических принципов: от меньшего к большему, от легкого к более трудному. Если он хочет, чтобы жена его поняла или хотя бы почувствовала, что он переживает сейчас, то сначала он должен понять самого себя…
Когда он вышел из кабинета, секретарша испуганно спросила его, все ли с ним в порядке, он такой бледный. З. только кивнул, мол, все в порядке, взял с вешалки свой плащ и вышел в коридор. Навстречу попадались коллеги, студенты, здоровались с ним; он отсутствующим взглядом смотрел мимо. Спустившись по лестнице, вышел на набережную, двинулся к мосту Свободы, перешел на другой берег Дуная и по извилистым дорожкам стал подниматься на гору Геллерт.
На одной из площадок, выходивших к Дунаю, он сел на скамью, вынул носовой платок с вышитой монограммой, протер очки. И попытался привести в порядок свои мысли.
Четверть века он прожил, не ощущая ни малейшей необходимости отмечать еврейские праздники, делать или не делать что-либо в соответствии с еврейской традицией, — в противоположность тому, как он жил до войны и какое-то время после; хотя после — убежденности в нем уже не было, оставались лишь горе, упрямство да остатки верности себе.
Осенью тысяча девятьсот сорок пятого, когда он вернулся из плена и узнал, что отец, мать, сестры, жена, семилетний сын, пятилетняя дочь — все бесследно сгинули в черной дыре, которую можно назвать одним словом: «Освенцим», в нем словно что-то оборвалось. Он преподавал в возобновившей занятия Школе раввинов, читал лекции в педучилище, начал несколько научных работ, писал статьи, находя вдохновляющие примеры в еврейской истории, которая после очередной катастрофы всегда начиналась заново; но сам он воодушевления не чувствовал. Религиозно-правовая тематика, увлекавшая его перед войной, теперь перестала его занимать. Горечь и протест, которые овладевали им, когда он думал о Боге, обратили его научные интересы к богоборцам, которых в древней истории евреев было немало. Он стал писать о них, об их метаниях, их одиночестве — в то время как, в соответствии со своей должностью и служебным долгом, работая в возрождающихся учебных заведениях, пытался вселить веру и жажду знаний в тех подростков и молодых людей, у которых знаний было еще слишком мало, чтобы они служили опорой их вере, вера же получила от пережитого не меньший урон, чем у него.
Три года он, стиснув зубы, стремился не только обогатить их знаниями, но и раздуть в их душах огонь, хотя в нем самом не осталось ничего, кроме вопросов и сомнений. То, что они пережили, не умещалось в ряду тех катастроф, которых было так много в еврейской истории. Холокост можно было поставить рядом разве что с разрушением Храма. Он не мог избавиться от мысли, что Всевышний, если Он все-таки существует (сам З. в это уже не верил), на сей раз действительно отвратил лик от Своего народа и разорвал Свой завет с ним: ведь большинство евреев отвергло Его законы… Во всяком случае, за эти три года его вера тоже была перемолота, стала пылью. Всё тщета, всё суета сует, готов был он повторять каждый день, но позволить себе такого он не мог. Лгать же ученикам не хотел тоже…
Он сидел на скамье, глядя вниз, на Дунай, на город; проходившие мимо парочки, группы туристов и просто зеваки бросали на него взгляд, и в глазах у них появлялось некоторое удивление, даже сочувствие, хотя одет он был в безупречный серый костюм с белой рубашкой и галстуком. Плащ только, может быть, помялся немного… Они словно чувствовали, что в душе у этого солидного, интеллигентного человека творится черт знает что… Он нервно курил сигарету за сигаретой, пока пачка не опустела; он смял ее и выбросил. Потом все же нашел в кармане еще одну сигарету — и, закурив, тлеющим кончиком стал чертить круги в густеющих сумерках.
Тогда, весной тысяча девятьсот сорок девятого, он тоже долго терзался и колебался. Принять решение было далеко не так просто, как могли подумать те, кто его знал. Утром сотворить молитву в Школе раввинов, потом толковать слушателям Исаию, а на следующий день с непокрытой головой прийти в университет — и все то, что наполняло его жизнь до сих пор, все, из чего до сих пор он должен был черпать — хотя бы для своих учеников — веру и самосознание, представить, как ничего не значащий эпизод, как замшелую догму, как некую окаменелость, по какому-то недоразумению дошедшую из древности до сегодняшних дней.
Напрасно пытался он относиться к своему уходу из Школы раввинов как к банальной смене работы, как к одному из поворотов на извилистом карьерном пути: он догадывался, что́ об этом думают окружающие. Напрасно он убеждал себя, что в конце концов поступает в согласии с духом традиции: ведь сосредоточенность на Торе, без наличия какого-либо мирского занятия, которое служило бы пускай лишь источником пропитания, отрывает тебя от земного мира; по мнению мудрецов, если человек занимается в меру и тем, и другим, это достойно лишь похвалы. В глубине души З. прекрасно понимал, что эта сугья[5] на его случай не распространяется. Должность раввина для тех, кто ее занимал, и прежде была в общем-то источником пропитания, а вовсе не жизненным призванием, говорил он себе, в то же время зная: соображения эти, возможно, неопровержимы, и тем не менее, покидая Школу раввинов, он поворачивается спиной к тому сообществу, членом которого был до сих пор, и решением своим навсегда отлучает себя от еврейства.
Среди всех, кого он знал, был один-единственный человек, с которым он мог и с которым должен был поговорить об этом, — коллега, друг и соперник в одном лице. Человеку этому он доверял, как себе самому; ему можно было перед принятием важного решения открыть душу, рассказать, что за конфликт вот уже несколько месяцев терзает его все более нестерпимо. На них обоих в то время смотрели как на реальных кандидатов на место руководителя Школы раввинов, которые лишь друг с другом могут помериться научным весом и основательностью знаний.
Тогда они тоже пришли сюда, на гору Геллерт, и гуляли по дорожкам несколько часов. И хотя это вовсе было не в его натуре, З. говорил беспрерывно. Слова просто лились из него, и коллега, сам человек ученый, к тому же практикующий раввин, — почувствовал: его пригласили сюда не как оппонента, а скорее как свидетеля в споре, который З. вел с собственной совестью. Свидетеля, который должен засвидетельствовать его правоту.
А З. говорил, что уже не способен верить в то, что доказывает студентам на лекциях и о чем пишет в статьях. Да, появление государства Израиль вселяет в него надежду; да, он чувствует: если Провидение еще играет какую-то роль в мире — а в этом он, З., после Холокоста сильно сомневается, — то роль эту можно узреть как раз в появлении этого государства. Но бросить все и уехать туда он не может; или не хочет, что, в сущности, все равно. Эта двойственность угнетает его; не дает ему покоя и то, что в нынешних условиях он все менее эффективно использует свои способности, так как сфера еврейского образования сужается день ото дня. Отсутствуют авторитетные научные форумы, где они могли бы печататься, выступать с докладами; все сильнее идеологическое давление, оказываемое на религиозную жизнь и ее институты. Энергично жестикулируя, он говорил: вот, ему уже за тридцать, а у него никого и ничего нет, кроме накопленных знаний; и коллега знал, что это — чистая правда. В таком случае грех ли, спрашивал З., широко разводя руками и глядя коллеге в глаза, если он возьмется за углубление своего филологического и исторического научного багажа и начнет преподавать в светских заведениях?





