Алиби
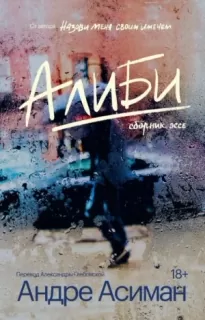
- Автор: Андре Асиман
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Алиби"
Рю Дельта
Помню, как четыре десятка лет назад, когда мы справили последний наш пасхальный седер в Египте, я смотрел, как все мои взрослые родственники встают из-за стола, движутся по длинному коридору, входят в тускло освещенную «семейную» комнату. Там — это происходило каждый год — все тихонько усаживались, слушали музыку, играли в карты и неизменно откладывали все в сторону, когда наставало время слушать вечерние новости по «Радио Монте-Карло». Я никогда не любил Пасху, но в тот год — последний для нас в Египте — все происходило не как обычно, поэтому я сел и стал наблюдать за взрослыми. Когда пришло время собраться у радиоприемника, я подошел к родителям и сказал, что хочу пойти прогуляться. Я знал, что они неохотно отпускали своего четырнадцатилетнего отпрыска бродить по соседним улицам ночью одному, но этот раз должен был стать последним, и прогулке предстояло, без моего, полагаю, ведома, превратиться в собственный мой вариант бесцельного прощального блуждания, когда ты идешь не только ради того, чтобы все увидеть напоследок или сделать мысленные фотографии для использования в, как их называл Вордсворт, «годы после», но ради того, чтобы ощутить, как нечто столь близко знакомое, как рю Дельта, с ее шумом, запахами, снующими толпами и гулом прибоя неподалеку, способно менее чем за сутки — а ведь она видела все этапы моего взросления — навеки прекратить свое существование. Это подобно последнему безнадежному взгляду на человека, который вот-вот умрет или станет чужим, и все же рука его еще лежит — такая теплая — в твоей руке. Мы пытаемся представить себе, как будем жить и в кого превратимся без них; пытаемся предугадать самое худшее; озираемся в поисках крошечных памяток — в грядущие годы они еще не раз будут будоражить нас внезапными вспышками тоски и горести. Мы учимся выдергивать воспоминания как сорняки, чтобы они не заполонили все вокруг. Но утрата, которую пока не осмыслить, озадачивает ничуть не меньше, чем будет озадачивать несколько десятков лет спустя, когда мы вдруг окажемся на той же улице и поймем, что и возвращение нам не осмыслить тоже. Неудивительно, что Одиссей спал, когда феаки опустили его на родную землю. Уход, как и возвращение, заставляет нас цепенеть. Память сама по себе — род оцепенения, она оглушает чувства. Не испытываешь ни горя, ни радости. Ощущаешь лишь отсутствие ощущений.
Выйдя из нашего многоквартирного дома, я по привычке двинулся в сторону прибрежного шоссе, которое носило в Александрии название Корниш, — в те времена освещалось оно очень скудно, отчасти потому, что не все фонари были исправны, но дело было еще и в том, что президент Насер старательно культивировал атмосферу военного времени, чтобы соотечественники его постоянно пребывали в страхе перед израильским налетом. В те вечера в середине шестидесятых над городом будто висело непреднамеренное скомканное затемнение, вот только боевой дух оно не поднимало, а лишь свидетельствовало о том, как стремительно Египет катится в пропасть. Фонари и крышки от люков постоянно воровали, а заменять их никто не трудился. Город просто становился все темнее и неухоженнее.
И все же поздний вечер в Александрии, по ходу длящегося целый месяц праздника Рамадан, когда верующие мусульмане ежедневно постятся до заката, — пиршество для всех чувств, и меня, пока я шагал мимо вереницы лотков на тускло освещенной улице, встречали — это вспомнит любой мой сверстник-европеец египетского происхождения — изумительные ароматы всякой сладкой еды, которые не только взывали ко мне: осознай же, что ты утратишь, утратив Александрию, — но своим безоглядным первобытным благоуханием насылали странное ощущение восторга, порожденного предзнанием того, что вот, уехав из Египта, я избавлюсь от необходимости снова вдыхать эти приземленные запахи и уже ничто не станет напоминать мне о том, что я когда-то вынужден был валандаться у этого обветшалого задника Европы. В тот момент, как и на протяжении всех этих дней конца 1965 года, об отъезде я думал с опаской, нетерпением и неохотой. Мне очень хотелось получить нескончаемую отсрочку — остаться навек, зная, что очень скоро уеду.
Так, собственно, мы и «жили» в Египте в те дни: не только предвосхищением переселения в Европу, которое делалось тем желаннее, чем больше мы его откладывали, но и тоской по европейской Александрии, которой в Египте больше, по сути, не существовало и чью кончину мы день за днем отчаянно пытались предотвратить.
А вот в Европе я обнаружил, что мечтаю о возвращении в Египет, из которого раньше так рвался уехать. Не то чтобы я хотел в Египет; я хотел оказаться там, чтобы снова мечтать о Европе.
Паскаль где-то говорит, что добродетель зачастую сводится к нахождению равновесия между двумя противоположными пороками. Подобным же образом настоящее является произвольной точкой приложения времени, моментом, находящимся в зыбком равновесии между двумя бесконечностями, моментом, в котором стремление убежать от мечтаний о будущем и мечтание вернуться в прошлое странным образом оборачиваются своими противоположностями. В итоге мы помним не прошлое, мы помним в прошлом себя, занятых измышлением будущего. И часто предвкушаем мы отнюдь не будущее, а возвращенное нам прошлое.
Подобным же образом и любим мы отнюдь не те вещи, о которых мечтаем, а любим сами мечты — как вот любим не предмет воспоминания, а сами воспоминания. Сегодня, сидя за компьютером в Нью-Йорке, я посвящаю изрядную часть своего времени мечтам о будущей жизни. К чему рано или поздно сведутся мои истинные воспоминания, как не к компьютерному экрану и узорному ковру вымысла? Европейцы в Египте проводят столько времени, лелея мысли о счастье за пределами Египта, что, глядя вспять, ретроспективно, кажется, что часть счастья, о котором мы мечтали, переметнулась на нашу египетскую жизнь и сообщила ей свой запах, набросив пленку счастья на те дни, про которые мы всегда будем знать: легче умереть, чем пережить их снова. Не в тот Египет, который я знал и из которого так спешил сбежать, я мечтал вернуться, а в тот, где я научился воображать себя где-либо в другом месте, кем-либо другим.
Все читатели моих воспоминаний «Из Египта» сталкиваются с озадачивающим парадоксом: я пишу, что та прогулка в пасхальную ночь существует не в одном варианте, а в двух — причем оба были опубликованы. В первом варианте — он появился в журнале «Комментари» в мае 1990 года — торговец-араб продает мне питу с фалафелем, прямо когда я добираюсь до Корниш; во втором, опубликованном как часть моих воспоминаний в 1995-м, он вручает мне пирожное, какие пекут на Рамадан, и не берет с меня денег.
В обоих вариантах я вглядываюсь в ночное море и, стоя лицом к лицу с Александрией, по которой уже начинаю тосковать, предаюсь одним и тем же мыслям. Однако между двумя вариантами есть кардинальное отличие. В книге я стою один. В журнале я гуляю не в одиночестве, а в обществе брата. И действительно, поскольку сам я в отрочестве был довольно робким и нерешительным, скорее всего, именно мой младший брат, куда более отважный и предприимчивый, придумал в последний наш вечер в Египте отправиться на такую прогулку. И только ему, а не мне могло прийти в голову в первый вечер Пасхи есть дрожжевой хлеб или сладкое пирожное, притом что атеистом из нас двоих был я, а не он.
Брат мой был склонен к бесшабашности и хулиганству. Про него говорили: он любит вещи и знает, как их заполучить. Я попросту не понимаю, что под этим имелось в виду. Я вообще, кажется, ничего из вещей никогда не любил и уж тем более не стремился заполучить. Брату я завидовал.
Он любил прийти на пляж пораньше, чтобы не упустить солнце, еду любил есть, пока не остыла. У меня от солнца начиналась мигрень, а что до горячей пищи, я ей предпочитал фрукты, сыры и орехи. Я еду грыз, он ею упивался. Ему нравились мясо, терпкие соусы, заправки, рагу, пряные травы и специи. Я знал единственную специю, орегано — им я посыпал бифштекс, чтобы отбить запах мяса.
Брат мог встать на колени перед кустом базилика и сказать, что ему нравится запах базилика. Я ни разу не нюхал базилика, пока он мне его не показал. Потом я постепенно полюбил базилик, как вот постепенно заставлял себя полюбить людей, с которыми он познакомился первым: я подражал им, увидев, что он копирует их гримасы, и менял о них мнение, глядя, как он читает их мысли и объявляет их лжецами.
Брат любил уходить из дома, я — оставаться в четырех стенах. В погожие летние дни мне милее всего было сидеть на балконе нашего домика рядом с пляжем и писать или рисовать в тени — мне было видно, как он несется по выбеленным солнцем дюнам к пляжу, не оглядываясь, будто спасая собственную жизнь, — так это называл отец.
Много лет спустя, в Нью-Йорке, я постепенно полюбил солнце, но как турист, не как туземец. Я так и не понял, люблю ли я солнце ради него самого, как любил брат, или оно напоминает мне про летние дни в Египте, где я всегда старался спрятаться от жара. Мне нравилось смотреть на солнце из тени, как вот и в отношениях с людьми мне нравилось не общаться, а думать, что я могу в любой момент утратить их дружбу, так что нужно учиться жить без них. В любую дружбу я всегда вступал, примериваясь, где здесь выход, порой запирая этот выход на засов.
Брат мой хорошо разбирался в людях. Я разбирался лишь в собственных впечатлениях — то есть в придуманных мною образах людей, как будто они были пришельцами, но все научились притворяться, что не видят друг в друге таковых.
Когда уже после Египта мы с ним подолгу гуляли вместе в Риме, он любил менять маршрут, блуждать, терять дорогу, искать новое; мне нравилось раз за разом совершать одни и те же прогулки, потому что все они вели к трем-четырем магазинам, торговавшим английскими книгами, или к местам, нам уже знакомым, или к тем, что напоминали мне о прочитанном и неизменно манили вернуться — если искать достаточно долго, и копать достаточно глубоко, и совершить все необходимые подмены на нечто смутно александрийское, — как будто, прежде чем что-то почувствовать, мне обязательно было пропустить это через таможню не столько ощущений, сколько воспоминаний. Гулять по Риму, не выискивая на ощупь внутренних вех и не надеясь создать новые «станции», куда потом можно будет вернуться, мне казалось немыслимым. Мне хотелось, чтобы брат радовался так же, как и я, каждый раз, когда мы повторяли знакомую прогулку, каждый раз, когда складывалось ощущение, что мы в месте более нам знакомом, чем Рим. В результате, понятное дело, брат стал подшучивать над моими ностальгическими причудами и, утомившись, повадился гулять со своими друзьями.
И все же — хотя я и заставил себя полюбить прогулки без него — я признателен ему за многие места, которые без него никогда бы не обнаружил, — так же как в 1995 году, когда я снова поехал в Египет, мне оказалось абсолютно необходимо его постоянное присутствие, чтобы придать официальный статус моему возвращению — в противном случае я бы так и не вышел из оцепенения. Восхождение Петрарки на гору Ванту оказалось бы бессмысленным, если бы часть пути с ним не прошел брат; визит Фрейда на Акрополь лишился бы своего мрачного флера, если бы с ним рядом не было брата, который постоянно напоминал ему об отце; у Ван Гога был его неколебимый Тео, который постоянно приходил ему на выручку; Вордсворта при возвращении в аббатство Тинтерн сопровождала сестра. Вот так и я не справился бы без брата.





