Алиби
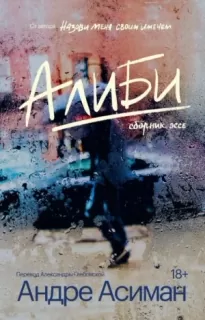
- Автор: Андре Асиман
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Алиби"
Когда в Нью-Йорке я как-то сказал ему, что очень скучаю по нашему летнему домику, он ответил, что в детстве я всегда последним отправлялся на пляж, потому что, как было известно всем, пляж я терпеть не мог, хоть средиземноморский, хоть какой еще.
Этим его умением сказать колкость — одну из них он отпустил в мой адрес, когда я задумался, стоит ли есть питу с фалафелем в ту пасхальную ночь по ходу нашей вечерней прогулки по Александрии в варианте 1990 года, — я и пожертвовал в итоге, когда решил истребить брата в своих воспоминаниях 1995 года. Разумеется, полностью он не исчез, вернулся через черный ход, когда я поймал себя на том, что в более позднем варианте присвоил его голос, а вместе с голосом — его любовь к жизни, этой земле, сладкой сдобе. Я внезапно полюбил солнце, хотя всегда от него прятался. Я внезапно начал наслаждаться запахом мясного рагу и летним зноем; я полюбил людей, полюбил смех, полюбил лежать на солнцепеке и дремать, едва прикрыв лицо рыбацкой шляпой — в кожу навеки впитался пляжный запах, и вот он постепенно стал и моим запахом, как и Александрия стала моей, хотя я никогда ей не принадлежал и никогда не хотел принадлежать. Я присвоил его любовь, потому что сам ее испытывать был не в состоянии.
Получается, что я лгал?
Роман — об этом раз за разом повествует история жанра, от мадам де Лафайет через Дефо, Филдинга, Диккенса и Достоевского — постоянно прикидывается тем, чем не является; он претендует на историческую достоверность, и события в нем изложены так, будто произошли на самом деле. В мемуарах же события поданы как вымысел, то есть будто никогда не происходили на самом деле. Два жанра заимствуют друг у друга условности. В первом якобы рассказываются реальные факты, во втором якобы нет. В плохих мемуарах запросто можно обнаружить начало, середину и конец. В хорошем романе, как и в жизни, их зачастую не бывает.
Разница между романом и мемуаром куда более неоднозначна, чем кажется на первый взгляд. Если мемуары пишут с целью очистить мозг от мертвого мнемонического груза, стоит ли врать по поводу своих воспоминаний и придумывать суррогатные — поможет ли это? Помогает ли ложь избавиться от лишнего или — что куда логичнее — препятствует этому? Или в процессе письма нам открывается параллельная вселенная, в которую мы пытаемся поштучно переправить все самое ценное наше имущество, — так иммигранты, обосновавшись в Америке, по одному приглашают к себе своих родичей?
Или мемуары собственно и состоят из лжи о собственной жизни, а значит, служат способом придать ей форму и стройность, связность, которую она может обрести лишь на бумаге? Или это способ возвращения или репетиции возвращения — так вот некоторые из нас истово раздувают давно угасшее пламя, но с условием, что воссоединение так и останется фантазией? Может, жизнь наша попросту неполна и несвязна, если не навести на нее эстетический глянец? Может, именно обращение к литературному вымыслу способно породить ту самую тоску по дому, которую мемуары призваны избыть? Или владение искусством слова предполагает способность ко лжи, то есть после того, как ложь наша вплетается в хронику нашей жизни, ее уже оттуда обратно не извлечешь, как вот невозможно извлечь примеси из уже отчеканенной монеты или отодрать жвачку, на которую ты несколько раз наступил на тротуаре?
Друзья и читатели, знакомые с описанием нашего последнего седера в варианте 1990 года, были ошарашены, когда у них на глазах в варианте 1995 года я предпринял эту вечернюю прогулку в одиночестве. Что случилось с моим братом, почему он меня не сопровождает? Да и вообще, если подумать, почему его и вовсе нет в книге? Что это за мемуары такие, если можно убрать одного персонажа, переиначить других и — кто знает — еще и изобрести нескольких?
Убрать брата из вечерней прогулки оказалось до бессовестности просто — хоть трактуй это так, будто я всю жизнь только и мечтал от него избавиться. В последний момент пришлось внести кое-какие изменения, чтобы превратить ночной диалог с братом в молчаливый монолог без него. Эти изменения оказались неожиданно благотворными — так часто бывает, когда потеряешь несколько страниц и приходится переписывать их с нуля: в результате обнаруживается, что тебе удалось сказать какие-то вещи, которых ты вроде и не думал говорить, при этом вроде как очень хотел сказать, но не мог, именно потому, что этому мешали те вещи, которые ты, на свое счастье, потерял. Длинные элегические пассажи в самом конце «Из Египта», которые любят цитировать в рецензиях, были на самом деле написаны с единственной целью: сгладить шероховатости, оставшиеся после исчезновения брата, спеть ему прощальную элегию:
И вот, коснувшись сырой зернистой стены мола, я внезапно понял, что всегда буду помнить эту ночь, что долгие годы предстоит мне вспоминать, как я сижу здесь, охваченный тоской и растерянностью, вслушиваюсь в плеск волн о крупные валуны ниже набережной и смотрю, как дети направляются к берегу извилистой игривой процессией. Мне захотелось вернуться сюда завтра вечером, и послезавтра, и на следующий вечер после того — я ощущал, что нестерпимо мучительным отъезд делает, в частности, и то, что больше не суждено мне такой ночи, не покупать мне больше влажных лепешек вечером у побережья; ни в этом году, ни в следующем не ощутить мне внезапной ошеломляющей красоты этого момента, когда — пусть и на один миг — меня охватила тоска по городу, хотя даже и не знал, что этот город люблю.
Это говорю не я. А мой брат.
Последнее предложение в изначальном своем варианте в «Из Египта» выражало совершенно другие чувства. Я никогда не любил Египет. Не любил и Александрию — ее запахи, пляжи, жителей. В исконном варианте предложение завершалось довольно обескураживающими, но при этом куда более парадоксальными словами: я «меня охватила тоска по городу, хотя даже и не знал, что этот город ненавижу». Вот только по злой иронии утверждение это не согласовывалось с той солнечной и лучезарной Александрией, которую я изобразил в книге. Брат мой любил Александрию; я ее ненавидел.
Один из первых моих читателей сразу же уловил несостыковку между словом «ненависть» и городом, который я, как получалось, очень любил, и попросил меня… переделать. В свете моих приязненных, порой даже восторженных описаний александрийской жизни, пожалуй, более подходящим здесь будет слово «любить».
Чистая правда. Даже не задумавшись, я вычеркнул глагол «ненавидеть» и заменил его глаголом «любить». Ненависть к Александрии превратилась в любовь к ней. Вот так просто.
То, что мне столь непринужденно удалось решить этот вопрос — я будто перевернул монетку и из одной крайности шагнул в другую, — означает, что либо в душе я испытывал к городу двойственные чувства, либо что я так и не определился, чей голос звучал в ту минуту: мой или моего брата. Но даже если это брат говорил моим голосом, сам факт, что я описывал Александрию с такой любовной и прочувствованной точностью, с таким стремлением воспроизвести тот или иной миг, вернуться в то или иное место, мог быть проявлением скрытого моего желания стать таким, как он, чувствовать так, как он чувствовал, перестать быть собой и, если удастся убедить в этом других, и самому тоже в это поверить.
Но тут грядет еще одно признание. Ночной прогулки по рю Дельта в последнюю нашу ночь в Египте, с братом или без, не было вовсе. В ту ночь все остались дома, в привычной уже угрюмой тревоге — прощались со случайными гостями, которые заглянули к нам ночью и, несмотря на наши настойчивые просьбы, снова явились утром.
Последняя моя в Египте прогулка с братом — голый вымысел. Что до момента, когда — с ним вместе или без — я смотрю на море и даю обещание запомнить этот вечер и отмечать эту годовщину в грядущие годы, — он тоже придуман. Однако вымысел этот укоренился во мне так, как никогда не укоренилась бы правда. Это — воспользуемся словом Аристотеля — мне должно было почувствовать, как если бы я все-таки совершил в ту ночь эту последнюю памятную прогулку.
И действительно, едва ли не первое, самое первое, что я сделал, вернувшись в Египет тридцать лет спустя, — я отправился на рю Дельта посмотреть на дом бабушки. Когда я шагал по рю Дельта, на меня то и дело накатывала мысль, что я совсем ничего не забыл. Ничто меня не удивляло. Не удивил даже сам факт, что меня ничто не удивляет. По сути, я мог бы остаться дома в Нью-Йорке и описать этот визит так же, как писал и свои мемуары: сидя за письменным столом перед экраном компьютера в Верхнем Вест-Сайде. В Александрии, куда я вернулся, меня не покидала одна мысль: я прочитал Пруста; я учился, учил, писал про память, писал по памяти. Я досконально исследовал механизм времени, пред-памяти, пост-памяти, пара-памяти о местах посещенных, не посещенных, посещенных заново; но вот я гляжу на знакомые здания, на эту улицу, этих людей — и понимаю, что внутри у меня только оцепенение, а мысль в голове одна: они уже попали в мою книгу. В процессе письма о них я узнал их так досконально, будто никуда и не уезжал. Процесс письма об Александрии, «столице памяти», украл из моей памяти ее лучезарность.
Казалось, что путь с рю Дельта к морю проложен для меня заранее. Я шагал по улице, которая за тридцать лет не изменилась. Даже ее запахи, поднимавшиеся, как они поднимались в былые времена от уличного уровня до моей спальни тремя лестничными пролетами выше, были не такими уж незнакомыми, а аромат фалафеля вызывал в памяти закуток, где им торгуют на углу Бродвея и Сто четвертой улицы, — он часто заставлял меня думать о летних заведениях в Александрии, что парадоксально: теперь запах фалафеля здесь, в Египте, уступал подлинностью запаху фалафеля на Бродвее.
Стоило мне взглянуть, как рю Дельта подходит к пляжу, и я тут же вспомнил, как писал сцену про брата и как мы с ним шагали туда в последнюю нашу ночь в Египте. Запомнилось мне не то, что случилось тридцать лет тому назад, запомнился собственный вымысел. Я помнил, зная при этом, что помню ложь. Мы остановились вон там, купили какой-то еды, потом пересекли Корниш, влезли на каменную стену у пляжа, сели вот в этом самом месте — смотрели на ночное Средиземное море и на созвездие рыбацких лодок, мерцавших на горизонте. Я отчетливо видел брата — каким он был тогда и каким стал теперь: вот он смотрит на прыгучую процессию детишек-египтян, которые идут по песку, размахивая праздничными фонариками, они скрываются за причалом, вновь появляются дальше. Я попытался напомнить себе, что в окончательном варианте этой сцены брата нет, что я его изъял, что я сидел и смотрел на море в одиночестве. Но сколько я ни пытался свести воспоминания к этому последнему варианту, брат все появлялся на рю Дельта, как будто его образ, подобно покрывающему воспоминанию Фрейда или следовому образу, тени памяти, оставался — сколько я ни пытался его искоренить — истиной, изгонять которую было бессмысленно и даже бесчестно, притом что я знал, что никогда не совершал этой прогулки, ни с ним, ни без него.
Сегодня, если я пытаюсь представить себе рю Дельта ночью, передо мной встает картина, в которую мы с братом вписаны вдвоем. Он в шортах, на шею накинут свитер, шагает к морю, заранее предвкушая, какую вкусную питу купит в угловой лавочке под названием «Фалафель-паша». Нет у меня других воспоминаний о рю Дельта. Даже память о возвращении постепенно выцветает. И уж чего я точно не помню, это настоящей рю Дельта, той рю Дельта, которая стояла у меня перед глазами прежде, чем я написал «Из Египта». Эта рю Дельта утрачена навеки.





