Время Смилодона
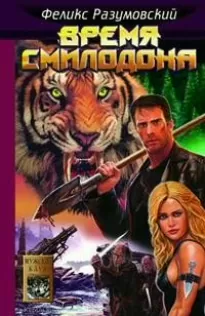
- Автор: Феликс Разумовский
- Жанр: Альтернативная история
- Дата выхода: 2005
Читать книгу "Время Смилодона"
V
«…Ночью во время своего цветения панцуй богов светится таинственный белым огнем. Если в эту ночь выкопать волшебный корень, то он сможет не только вылечить человека от любой болезни, но и воскресить мертвого. Однако добыть такой женьшень чрезвычайно трудно, потому что его стерегут тигр и дракон. Только очень смелые люди могут решиться взять светящийся панцуй…» Таежная легенда
— А, это вы, юноша? Ну как плечо? — Глеб Ильич кивнул, дружески оскалился и, воздев над головой топор, резким взмахом отпустил. Так, что кряжистый березовый чурбан разлетелся аккуратными поленьями.
— Спасибо, доктор говорит, что уже лучше. — Буров с неподдельным восхищением посмотрел на древокола. — Господи, Глеб Ильич, сколько же вам лет? Иногда мне кажется, что мы с вами одногодки.
— Это все потому, что настоящий возраст человека, юноша, определяется душой. Качеством формы. Если она молода, то и тело соответственно. И никак иначе. — Глеб Ильич примерился, опустил топор, и еще один чурбан брызнул поленьями. — А вообще-то, пожил, пожил предостаточно, видел кое-что на этом свете. У Николая Ивановича[122] имел честь учиться, с иудой Лысенко[123] был по службе знаком, отца всех народов, великого и ужасного, однажды лицезрел на приеме в Кремле. Уж нету их давно, а вот я все живу… Да, впрочем, ладно, поговорим лучше, юноша, о вас. За что это вы в тюрьму-то угодили?
Они стояли во дворе, под кленом, у длинного бревенчатого сарая. Буров только что вернулся от эскулапа, где ему по новой обиходили плечо, Глеб же Ильич, судя по горе поленьев, вволю намахался топориком на горе грядущим морозам. Правда, пока что ликовало лето — в воздухе разливался зной, наяривали птички-синички, густо благоухало травами, цветами, нагревшимся на солнце деревом. Пессимизм таял, как сосновая живица, настроение поднималось к безоблачным высотам. Особенно у Бурова. За четыре дня, прожитых на новом месте, — в основном лишь одни положительные эмоции. Дедушка-китаец и впрямь оказался превосходным лекарем, бабушка матрона — искусным кулинаром, а долгожитель Глеб Ильич — изряднейшим, милейшим хлебосолом. Какими бывают обычно мужественные, много испытавшие плохого, но не утратившие веры в хорошее люди. Да уж, чего-чего, а жизненных коллизий на долю Глеба Ильича пришлось немало. Происходил он из дворянской, вовремя не эмигрировавшей семьи, а потому все время чувствовал настороженность советской власти — и в студенческие годы, и в аспирантуре, и уже работая в Институте почвоведения. Слава богу еще, что его заметил академик Вавилов и взял, не посмотрев на голубую кровь, в свою команду. Шел одна тысяча девятьсот тридцать пятый год, и Глеб Ильич Костромин только что защитил кандидатскую. А в одна тысяча девятьсот сороковом, когда он защитил докторскую, академика Вавилова арестовали и принялись внимательнейше разбираться с его ближайшим окружением. С этими злокозненными вейсманистами, морганистами и менделистами, позором, бременем и ярмом на могучей вые социалистической науки. В результате чего профессор Костромин угодил на пару месяцев в СИЗО, а затем, как еще не до конца погрязший, был откомандирован в приамурскую тайгу. Вместе с беременной женой. Всячески способствовать культивированию женьшеня, столь необходимого для советской фармакопеи. Чтобы не только там, у них, в странах капитала…[124]
Так Глеб Ильич и оказался в тайге, на Богом забытой безымянной заимке. Впрочем, нет, называлась она гордо: «Научная горно-таежная биологическая станция Дальневосточного филиала АН СССР». Во всем же остальном… Бревенчатое жилье, хозяйственные постройки, с тщанием унавоженные, с навесами, гряды.[125] Плюс ссыльно-поселенный помощник агроном — отчаявшийся, пьющий, начхавший на все и вся, покуривающие опиум китайские рабочие и чрезвычайно общительный, застилающий солнце гнус. Да еще беспросветная, давящая на психику тоска. Грусть, печаль, кручина, безнадега, тысяча скребущих на душе, нет, не черных кошек, полосатых уссурийских амб.[126] Только Глеб Ильич быстренько спустил с них шкуру и терзаться по этому поводу не стал — ударился в работу. Не то чтобы в плане выдачи женьшеня на гора, а принялся вдаваться в подробности, касающиеся всего, с корнем жизни связанного. Читал записки светлой памяти Янковского,[127] встречался с опытными корневщиками-вапанцуй, вникал в их быт, предания и традиции, старательно учил мудреный «хао-шу-хоа».[128] Бывало, что и сам пытал таежную удачу, старался отыскать сокровище, рожденное ударом молнии.[129] В общем, пообтерся Глеб Ильич, набрался опыта, крепко слился — крепче некуда — с матерью-природой. Жизнь тянулась буднично, размеренно, без суеты — привычно шелестели кедры, неспешно подрастала дочь, зрел, наливался соками искусственный эрзац-женьшень. Как говорится, Федот, да не тот.[130] А потом грянула война, и оплоту победивших пролетариев стало как-то не до женьшеня. Совершенно. Где-то громыхала канонада, свистели пули, струилась кровь, а здесь все тот же шелест кедров, неистребимый гнус, безудержное буйство ликующей природы. Еще, правда, старший лейтенант-уполномоченный, заявляющийся раз в месяц с проверкой из райцентра, одаривающий газетами ископаемой давности и пьющий до упаду с агрономом-алкашом. Жизнь на заимке походила на дрезину, тянущуюся по ржавым, проложенным неизвестно зачем рельсам. Куда, чего ради, с какой целью…
Так прошло пять лет, скучных, однообразных, невыразимо пресных, никчемных. Хотя это как посмотреть — дочка Варенька научилась грамоте, старший лейтенант дослужился до капитана, а хроник агроном отправился к русалкам, решив однажды спьяну искупаться в реке. С Глебом же Ильичом вообще случилось нечто примечательное — как-то раз в августе на охоте он наткнулся на умирающего. Тот лежал, вытянувшись, без сознания и что-то бессвязно бормотал, на теле его не было ни царапины, однако одежда заскорузла от крови. Теплая, на меху, странного покроя, явно не по сезону. Ну, чудеса… Только долго удивляться Глеб Ильич не стал, взгромоздил болящего себе на плечи да и потащил на заимку, благо, недалеко. Человек ведь как-никак, живая, пока еще, душа. А где-то на полпути умирающий вдруг очнулся, ужасно застонал и слабым голосом заговорил. На чудовищном русском. Попросил, коверкая слова, принести ему панцуй богов. Тот самый, волшебный, корень которого светится в темноте и может излечивать любую болезнь. Снова страшно застонал, объяснил, куда идти, и, судорожно дернувшись, затих. Корень жизни, вылечивающий все болезни, был ему уже ни к чему…
«Э-хе-хе», — расстроился Глеб Ильич, предал усопшего земле и, переваривая услышанное, занятый своими мыслями, в задумчивости побрел домой. Ему было не дано узнать, что он встретил Заниуни — старого маньчжурского шамана-булантка, тяжело раненного в душу из астрального лука.[131] Тот шел, чтобы выкопать Панцуй богов, да только не удалось…
Зато Глеб Ильич без проблем добрался через неделю до места, указанного Заниуни. Это была узкая неприметная долина в трех днях пути на север от кордона. Здесь росли исключительно кедры и пихты, царили спокойствие, сырость и тень. «Хорошее место, ни одной березы. И кислица ковром»,[132] — сразу же отметил Глеб Ильич, глянул наугад под папоротник-трехлистку и вдруг непроизвольно, по обычаю китайцев, рухнул на колени, еле-еле удержался, чтобы не закричать: «Ва-панцу-у-уй!» Перевел дыхание, справился с собой и хотел было немного оголить корень, чтобы по морщинам, по рубчикам на его теле оценить достоинство растения. Но, едва начав раскапывать землю, все же не удержался, закричал — корень был огромный, диаметром примерно в десять сантиметров. А затем до Глеба Ильича дошло, что и листьев у женьшеня было не пять и даже не шесть — семь. Вот уж воистину Панцуй богов. «Этого не может быть!» Глеб Ильич зажмурился, до боли потер ладонями глаза, однако, убедившись, что со зрением все в порядке, встал, отметил место находки и отправился осматриваться на местности — до заката солнца оставалось времени еще достаточно.[133] И уже где-то через полчаса совершенно утратил душевное спокойствие — вся долина была прямо-таки нашпигована корнями. Исполинскими, уникальными, не имеющими цены, неповторимо отмеченными семью причудливыми листками.[134] Это было сказочное, хранившееся сотни лет в земле сокровище, фантастический клад, о котором можно только мечтать.[135]
Впрочем, напрягать воображение Глеб Ильич не стал — вытащил, словно заправский женьшеньщик, костяные палочки[136] и принялся выкапывать панцуй из влажной таежной почвы. Дело это было неспешное, хлопотливое, требовалось не повредить ни одного отростка, ни одного мечевидного корешка. И чем глубже зарывался Костромин в землю, тем сильнее билось его сердце. Было с чего — корень поражал. Был он длиной с мужскую руку от кисти до локтя и весил, верно, где-то добрых полкило. А уж стоил-то…[137] Вернее, если говорить строго, не имел цены…
«Ничего себе морковка!» — восхитился Глеб Ильич, счистил ниткой землю с корня и аккуратно положил его в конверт, сделанный из кедровой коры и застланный влажным сфагнумом. Затем всыпал туда земли с места, где произрастал панцуй, удовлетворенно крякнул, поднял голову и непроизвольно выругался — ну, такую мать, вот он, очередной сюрприз. Не слишком ли их много за сегодняшний-то день? Пока он обихаживал женьшень, сгустилась темнота, и в опустившейся ночи затеплились огни. Иссиня-белые, обманные, напоминающие спящих светлячков. Но это были совсем не насекомые…
«Черт возьми!» — Глеб Ильич вспомнил байку про светящийся женьшень, сразу же заторопился и, невзирая на темноту, подался из долины. Понял очень хорошо, что это за тигр с драконом охраняют женьшень, даром, что ли, изучал работы Кюри.[138] Не позарился на сказочное богатство, взял только один корень, для себя и близких. Так же как и годом следующим, за ним — очередным, затем еще одним, еще, еще… За семнадцать лет Глеб Ильич выкопал ровно столько же корней, никогда не забывал, что жадность порождает бедность и наивысшее благо — это чувство меры. А вот в восемнадцатое лето не удержался, взалкал, обрек один панцуй на продажу: дочь, закончив техникум в Хабаровске, вышла замуж за бывшего сокурсника. Как же молодым-то без квартиры? Так что выкопал Костромин пару панцуев посимпатичнее, один по всей науке определил в настойку, а другой осторожно, с огромным знанием дела начал обращать в проклятый металл. Процесс этот был деликатный, тонкий и по сути очень опасный. Следовало, словно летчику в бою, то и дело оглядываться назад — и на любимое отечество, и на прожорливых посредников, и на потенциальных покупателей, зарабатывающих на жизнь не у мартена в цеху. Впрочем, по части всего, с панцуем связанного, Глеб Ильич собаку съел и в конце концов удачно продал корень чинному задумчивому китайцу из города Харбина. Такому рассудительному, несуетному в движениях, наверняка читающему перед сном Конфуция. Сомнений нет — поэту в душе. Ох, знал бы Глеб Ильич, кто у него тогда купил панцуй. И годом позже, когда родился внук, — еще один, потом еще, еще, еще. Верно говорят, что внешность обманчива. Хотя и не всегда. В самый первый раз взглянув на Бурова, Костромин проникся к нему симпатией и сейчас, спустя три дня, не случайно вспомнил про тюрьму — знал, что сесть туда порядочному человеку в разлюбезном отечестве ничего не стоит. Ох как хорошо знал…





