Б.Б. и др.
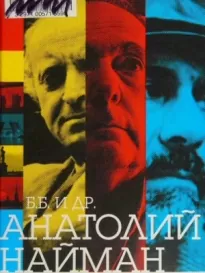
- Автор: Анатолий Найман
- Жанр: Биографии и Мемуары / Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Б.Б. и др."
* * *
В 70-е годы творческая компонента интеллектуальнокультурной жизни ушла в тень, на передний план вышла исследовательская. Литературу, живопись и музыку продолжали писать по инерции, иногда восхитительно писали, например «Москву — Петушки», но определяющим сделалось писание об искусстве: обнаруживали общие принципы, методы и механизмы в его разных, «далековатых» и вполне далеких одно от другого произведениях, приводили их к более или менее общим знаменателям. Первенство перешло от сочинителей к университетским, от знаний эмпирических к книжным. Юноши нашего поколения бросались на жизнь как на что-то, наконец, после доброй четверти века недоступности, открытое для непосредственного узнавания, полнокровного участия, навязывания себя. Образование сколько-нибудь систематическое, по естественной ограниченности человеческих возможностей, по недостатку сил и желания, упускалось; своим умом доходили до того, про что можно было бы узнать из учебника, интуицией — до элементарных знаний. Самолично добытые, они были дороже заемных, как самодельный гвоздь дороже магазинного. Сплошь и рядом откровение сводилось к тому, что два, умноженное на два, равно четырем, зато это было твое два и твое четыре, а что результат подтверждается таблицей умножения, значило, в первую очередь, что и все другие результаты верны.
Поколению Б.Б. бросаться уже было особенно не на что: эка невидаль — жизнь без Сталина, при Хрущеве, при Брежневе. Да особенно и некому. Поэты и художники следующего за нашим десятилетия мотались более или менее неприкаянные и что-то дополнительное к стихам и картинам доказывали. Их сверстники, как следует отучившиеся в университетах, понимали в их деле не меньше, а больше их, и высокомерно их третировали. Университетские кумекали по-гречески и по-латыни, им было все равно, чьи тексты перед ними: Тютчева или Тютькина, их товарища, — у них были одни критерии для обоих, и бедняге приходилось играть по их правилам и настаивать, что его стихи экзистенциалъней тютчевских. И правда, экзистен-циальностью они день ото дня всё больше обходили Тютчева — и, параллельно, скукой — самого Тютькина «раннего». И складывал бедняга их в циклы, перепечатывал в четырех экземплярах, брошюровал и оставлял незаметно за зеркалом в прихожей у многоумных своих бывших однокурсников.
Честно-то говоря, и у этих, как говорила когда-то прислуга Ольги Судейкиной, «первоученых» в душах пело ретивое: им было не все равно то, что они вышли на такой уровень постижения культуры, на котором все равно, чьи перед тобой стихи; им было не все равно, что они могут все равно что, стихи или квитанцию из металлоремонта, называть текстом; они чуть-чуть нервничали оттого, что у них столько знаний, оттого, что они понимают греческий, не говоря уже старогалисийский; а больше всего возбуждало их, что они — первое поколение филологов «такого ранга» после великих Бахтина, Шкловского и Томашевского, типичный комплекс «интеллигентов» в первом поколении.
Б.Б. каким-то боком примкнул к Тименчику и Осповату, другим каким-то — к Левинтону и Мейлаху. (Забавно, что к четырем из пяти перечисленных имен надо прибавлять «младший»: у одного Тименчика отец был просто ремесленник, у остальных — филологи, «старшие». Помните: «Будет, так же как и отец, содержать трактир», — Бобчинский про трехнедельного младенца говорит.) Не ими их подход к продукту искусства был открыт, «всегда», хочется сказать, имел место, а в 20-е годы так и громче, и ярче ихнего себя объявил, но в их время он назвался структурализмом, с претензией, то есть, на универсальность. С непосвященными — да нет, и между собой, пожалуй, тоже — разговор о своей причастности новой науке они вели с тонкой улыбкой, намекающей на эзотеричность всего дела, этакого интеллектуального cosa nostra, и в профанное пространство обыкновенной жизни выпускали лишь несколько сакральных слов вроде кяарику и семиотикэ, которые притягательными пузыриками скользили по поверхности, указывая на существование тайного бездонного водоема. Кяарику был городок в Эстонии, куда они из двух столиц съезжались летом на семинары «по знаковым системам», в результате чего зимой выходили их статьи в сборниках под названием «Семиотикэ», напечатанным греческими буквами.
Времяпрепровождение было славное, да и время неплохое, особенно поначалу — сужу об этом в основном по их рассказам. Потому что статьи, за редчайшим исключением, были написаны кошмарным языком, и если судить по ним, то в Сочи в каком-то смысле было лучше. Язык они объясняли двумя причинами: величественно — тем, что это наука, такая же специальная и точная, как, скажем, математика, и не требуется же от математиков, чтобы они писали эссе; и жалобно-мужественно — условиями цензурными, при которых написанное таким образом более проходимо. Дескать, была бы свобода, писали бы так, что дух бы захватывало. Это, однако, не подтвердилось, когда свобода пришла и они написали воспоминания и объяснения, «былое и думы», так сказать, уже по-человечески. У Лотмана, у Гаспарова Бориса, еще у нескольких как тогда статьи были захватывающие, так и сейчас получилось, а другие многие, вроде нашего Б.Б., привлекательнее выглядели все-таки когда выражались стилем (σημειωτικη), «бессмысленным и беспощадным». Некоторые из них, как оказалось, сами пробовали силы в сочинении художественной прозы и стихов: образцы сейчас опубликованы и похожи на бумажный рубль, частью разрезанный на ломтики, частью обвалянный в яйце и зажаренный, и так поданный к столу в качестве фунта колбасы, который на него можно было бы купить.
Не то чтобы их было много, но их присутствие стало проступать по всей филологической, на глазах превращавшейся в культурологическую, территории, как влага на лугу после дождей или на ковре, залитом соседями с верхнего этажа, — в том месте, куда в данную минуту ступала твоя нога. Это было следствием замысла безусловно грандиозного, одного из тех, которые замахиваются на самое главное, на «общую теорию поля». Наиболее одаренные и знающие открыли много замечательных вещей, что они, родись раньше или позже, сделали бы и не будучи структуралистами. Разумеется, методы нового искусства порождали методику нового понимания его, и то, что Ахматова, к примеру, писала так, как она писала, вызвало к жизни то, что о ней так написали Тименчик, Топоров и Цивьян. Но параллельно с филологической работой, наглядно существенной и плодотворной, шла игра в бисер, в конечном итоге бесплодная и неадекватно разочаровывающая, хотя в самом своем процессе веселая, увлекательная, пленяющая необязательностью и остротой и как таковая претензий не вызывающая, — если бы запятые ею не выдавали и ее за серьезную, общезначимую и нелегкую работу.
Структуралистами становились все, надо не надо, хочешь не хочешь, можешь не можешь, и это приводило к тому, что ключи, подобранные к Ахматовой или к Мандельштаму, совали, как отмычки, в замочные скважины ничего такого не ожидающих Пастернака и Цветаевой. Однажды за многолюдным дачным столом заплелся, побежал летний разговор о «Докторе Живаго», и молоденький филолог по имени Костя после достаточного помалкивания доложил с умеряемой ради компании безапелляционностью, что Лара — это, конечно, Марина, понимай — Ивановна. И когда зашумело, зататакало вокруг, что с какой стати Марина, если Зина, и куда Ольгу девать, он, погуляв желваками и порозовев, брякнул: «Вы все любители, а я семиотик-профессионал!» А когда жена Наймана однажды в подобной компании, на сей раз чеканившей звенящие сталью максимы о Набокове, заикнулась, что были в это время писатели и получше… («Например, кто?!» — «Например, Томас Манн…»), — то молоденький филолог по имени Федя отказался захватить с собой перчатки, которые забыла у Найманов его мать, и объяснил это кратко, взорвав грамматику возмущением: «Которые Набокова… которые Томаса Манна… нет, нет и нет!»
И, конечно, как за всяким предприятием, претендующим создать структуру, параллельную созданной актом творения, и уразуметь как систему то, что принципиально должно выходить за рамки всех систем, а именно, как «полагались основания земли» и каковы «уставы неба», проступал на заднике и этой оперы остроухий силуэт и поскребывали из-за кулис коготки ее главного режиссера. «Ради красного словца не пожалеть родного отца — это и есть филология», — нормировал одним из своих афоризмов веселый Осповат. Ну, во-первых, возвед на высокую гору, показывали нам все царства вселенной во мгновение времени и обещали власть над ними и славу их. Маяковский сопрягался с фараоном египетским, и оба они — с корейскими гностиками. Одно было равно другому, и всё всему, и всё достигалось щелчком пальцев. Пчела у Овидия, и в песне «Пчела, пчела, кругом пчела» на слова поэта Танича, и в инструкции по устройству пасек на приусадебном участке была одна и та же. Слова сбивались в мелкодисперсный майонез, он же автомобильная смазка, он же крем для загара. Вкус, естественно, отменялся. Разница в установках политических, эстетических, моральных, естественно, тоже: было бы слово, а текст найдется.
Не поразительно, что автор известной финской монографии о воровстве попался на краже в универмаге, а швейцарец, писавший книги о де Саде и Мазохе, скупал все, какие мог найти, порнофильмы. Если по-академически бесстрастно и безмятежно сопоставлять в одной статье колонны, возводившиеся архитектором Шпеером в Третьем рейхе, и колонны, обрушенные Самсоном, то незаметно и сам, как говорил один мой друг, уже не ориентируешься, где — своя жена, а где — продавщица из часового магазина, и те, кто статью читает, тоже перестают ориентироваться. Смешение — великое дело, могущественное: главное, чтобы царства, чтобы — все, чтобы — разом, и непременно чтобы — с высокой горы, откуда все выглядит одинаково бледно, одинаково убедительно-неубедительно, одинаково достижимо-недостижимо — что власть, что слава.
Что до жен и продавщиц, то нареканий на личную нравственность новых интеллектуалов в партком не поступало. Однако захватить после смерти чей-то архив или библиотеку, залезть в дневники и письма покойничков, «артиста и его окружения», хоть уже истлевших, хоть еще теплых, считалось не просто нормой, а даже с отсветом высшего служения — потому что «в хорошие руки» и «хорошими руками». Если Михаил Булгаков, сидя на корточках у печки, выдирал из тетради листы промежуточного варианта «Мастера и Маргариты» и бросал их в огонь, то булгаковед, дыша учащенней и счастливее, чем обычно, как хищник, учуявший кровь, набрасывался на рваные клочки корешков и по нескольким застрявшим на них буквам реконструировал текст. Что, может быть, так не надо или, того пуще, нельзя, и в голову никому не пришло бы обсуждать, настолько это было само собой разумеющимся. Того размаха и разгула, который появился вскоре, в пору, названную постмодернистской, тогда еще не было, постельное белье вроде не перетряхивали, инцестов не вскрывали, не объявляли, кто истинно верующий, а кто спрохвала, но семя посеяли и почву взрыхлили.
И как косвенное следствие, которое все такие грандиозные антрепризы производят независимо от желания или нежелания участников, повысилась ощутимо общая энтропия творческой мысли, наклонился мыслящий тростник еще на градус к земле и депрессии. Как ни крути, а походила эта семиотика структуральная, этот семиотический структурализм на похороны искусства, и музыкой несло заунывной, и тоской потягивало замогильной. И то, что именно та-кие мастера культуры вышли на авансцену, отодвинув неученых, но каких-никаких богемных, горячих, бесшабашных и обольстительных поэтов нашего десятилетия, выглядело как замена актерской труппы союзом театральных критиков и, если угодно, безумного Хрущева обстоятельным Брежневым. Поэты — пока они поэты, — что замечательные, что так себе, существуют вне какого бы то ни было, кем бы то ни было принятого списка, и все остальные люди волей-неволей с этим соглашаются, зная при этом, что сами в какие-то списки входят. А если властители умов — ученые, то есть отличающиеся от всех лишь величиной, но не качеством знания, лишь манерой, но не качеством поведения, то значит, в общем списке — все, пусть одни под первыми номерами, а другие под сотыми: ведь вполне возможно с течением времени местами и поменяться, свободное дело. А так как бесчувственный ровный тон, каким они описывали выбранных ими для своих статей поэтов, выдавал неуловимое их над поэтами превосходство, то выходило, что и поэты — такие же, как все, а их, новых ученых, так даже чуточку и хуже.





