Б.Б. и др.
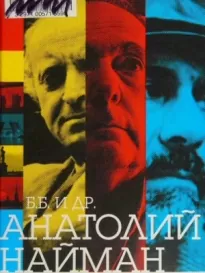
- Автор: Анатолий Найман
- Жанр: Биографии и Мемуары / Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Б.Б. и др."
* * *
«Глядел по-собачьи», «немыслимо оскорбительные вещи» сносил… Про живого, да еще близко знаемого тобой человека неприятно так говорить, нехорошо. Про мертвого — тем более; а ведь будет и мертвым. Что ж он, вовсе не испытывал самоуважения, элементарной гордости, что позволял себя так унижать? Или, напротив, до такой степени смирялся? Или, наоборот, так был высокомерен, что на унижение плевал? Конечно, его несчастные запутанные отношения с миром чувств давали какую-то анестезию, притупляли боль от обид. Когда нет четкого представления, не говоря уже уверенности, твое это твое свойство или прижитое от прохожего молодца, иначе сказать: какое оно на самом-то деле, — то чувство этого качества тем паче под вопросом, тем паче нереально. Но ведь шел он на то, чтобы терпеть — от нас, улыбался болезненно — Бродскому, а мы-то были в то время полнейшие никто и ничто. И «навар», который он, как я походя в него пальнул, с нас получал, вид навара имел для него одного. И даже если он делал так с прицелом на будущее, то это был только доморощенный прицел, а никак не провидение змеиным взглядом пифии, и ни из чего не следовало, что это будущее принесет навар, который и другими будет признан за таковой.
Уже в недавние годы я слышал от старых знакомых, правда, преимущественно отдам, что, например, Бродский еще тогда — или уже тогда, не знаю, как сказать лучше, — был красавец, «самый красивый из всех встреченных мною в жизни мужчин». Защита — или обвинение, не знаю, как лучше сказать, — располагает другими свидетельствами. Да Горбовский — я имею в виду физическую красоту — был рядом с ним, как Есенин рядом с Ремизовым! Да Нина Королева была признаннее Рейна больше, чем Бальмонт Крученыха! Да что любой из лито Горного института перспективнее нас, вместе взятых, было оттиснуто на сколах древнейших тектонических пород! Да сам умнейший и честнейший Глеб Семенов попер нас из этого перспективного лито после первого нашего туда визита!
И правильно сделал — потому что мы были тогда хуже, чем никто и ничто', у нас не было перспектив, абсолютно не было. А ведь были еще и еще ярусы достижений, признания и успешной будущности, ведь у горного лито билеты были лишь в средние ряды амфитеатра, а впереди была и Москва фрондирующая, и устоявшаяся, и преимущества принадлежать к тем и этим были самоочевидны. Однако же «влеченье, род недуга» Б.Б. испытывал почему-то как раз к нашим сиятельным нулям и минус-единицам.
Бродский, который шпынял, а то и пинал Б.Б., тогда был еще постоянно краснеющий, не уверенный в себе, страдающий от обид молодой человек, юноша, мягкий, готовый на услугу, открытый нежности, дружбе, — а никакой не авторитет. Никакой не железный исполнитель якобы намеченной им железной программы, никакой не первый поэт, которому, как сейчас пишут, «до Нобелевской премии оставалось двадцать пять лет». Он мог экспромтом сочинить, неуклюже рифмуя: «Prix Nobel? Oui, ma belle», но он сочинял гораздо лучшие, по большей части каламбурные, экспромты вроде: «padam, padam, padam padam документы в ОВИР», или: «охота к перемене nest» и множество других, и все только потому, что они в нем клокотали точно так же, как короткие горловые смешки, которыми он непроизвольно сопровождал свои бесконечные импровизации. Его мысли о премии были точно такие же, как у многих прочих, как у нашего общего приятеля, который сочинил: «не пронесите Нобеля мимо мово шнобеля», но премии не получил. И про ОВИР — Голду Меир он напевал, как Найман «девы, девы, девы — в Венгрии за форинты, в Болгарии за левы», не пересечение границы планируя, а исключительно ради созвучий и модной на ту минуту темы. Целью его и всех наших стихов были сами стихи, и только они — я думаю, этим мы и отличались в первую очередь и по самому существу от всех попадавших в амфитеатр, тем более допущенных на сцену. И, кто его знает, не именно ли поэтому обдуманно и необдуманно тянулся к нам Б.Б.? Именно для того, чтобы откатиться от яблони, несущей кубические, чтобы компактнее их укладывать, яблочки, как можно дальше.
Другим его выбором, который также не подгоняется под схему прямолинейных объяснений, хотя, на первый взгляд, и преследует выгоду, была не столько даже связь, сколько привязанность, опять-таки односторонняя, к Готе Степанову. Это за глаза или если ты с ним дружил — Готя, а так-то — Георгий Владимирович. Степанов был из «испанцев», из тех молоденьких советских добровольцев, которые воевали в испанской войне против Франко. Какие они были добровольцы, он рассказывал без нажима и между прочим. Он вообще так рассказывал — не пуская в ход свое всегда готовое сверкнуть, очаровательное остроумие, оставляя его для беседы. Он рассказывал, как после последнего инструктажа, пятого или десятого по счету, энкавэдэшник сказал: «Всё. Завтра в двенадцать на Белорусском вокзале», — и уже вслед их удаляющимся спинам добавил как нечто неважное, чисто формальное, даже забавное: «Если у кого за последние дни случилось изменение против анкетных данных, можно подойти ко мне». И тогда молодой человек по фамилии Римский-Корсаков вернулся к столу и сказал, что на прошлой неделе у них, «у папы с мамой», в гостях был его дядя, о котором они до той поры ничего не знали, приехавший из Парижа с делегацией по приглашению наркома просвещения. Степанов описал, как тот стоял у стола, высокий, худой, длиннорукий, длинношеий, «по-аристократически», как он выразился, нескладный, совсем мальчишка. В голосе у Степанова появились, когда он это говорил, нежность и боль, и он неожиданно стал на него похож — тоже длинный, с той же грацией, разве что не тощий, а сухой, обросший необходимым набором взрослых мускулов. Энкавэдэшник улыбнулся и ответил, что это не изменение, а изменение — это если бы вы женились или, например, забеременели. Все рассмеялись, а он повторил: «Значит, к двенадцати. До завтра, товарищ Римский-Корсаков». И после этого Степанов и никто, кто мог бы о нем знать, никогда нигде его больше не видели и ничего о нем не слышали.
В начале войны с немцами, в звании лейтенанта, Степанов был ранен, взят в плен и с четырьмя пулями в разных частях тела брошен, как куча других раненых, на открытую железнодорожную платформу, отправлявшуюся в, если не ошибаюсь, Эстонию. Дело было зимой, в стужу, это наилучшим, а врачи говорят — единственно возможным, способом спасло его от смерти. Наскоро прооперированный, с не извлеченной из локтя пулей и осколками кости, он попал в лагерь, бежал, снова воевал, после войны доучивался в Ленинграде у Шишмарева на романской филологии, начал аспирантуру, но тут пристальнее занялись поворотами его ратной судьбы и сослали в Ташкент. Когда Сталин умер, вернули.
На войне он вступил в партию, это, естественно, способствовало его карьере. К тому времени как Б.Б. приступил к галисийским трубадурам, Степанов был член-корреспондент академии, и именно как испанист. Так что Б.Б. была самая к нему дорога: он по ней и раскатился.
Степанов принял его вежливо, приветливо. Но сразу заметил, что пока, то есть на первом курсе, когда Б.Б. еще не вошел в предмет, или, как говорят мадридцы, в предмете — ni orcja, ni hocico, «ни орэха, ни hошико», что есть калька с латыни nihil auris, nihil oris, «нихил аурис, нихил орис», — как бы поточнее перевести? — ибо буквально-то это значит: ни уха ни рыла, — он, Степанов, к сожалению, не располагает той стороной орудийных возможностей романских, а конкретнее, старогалисийских штудий, которая на этом этапе могла бы принести Б.Б. хоть какую-то пользу. Б. Б. попробовал взять его на свой безотказный прием, на клещевидный захват необсуждаемой повелительности своих желаний и газовую атаку беспредметности доводов в их защиту, жестко замямлил: «Я уверен, что нам обоим будет…» — но Степанов, попадавший в окружение под Любанью, просто снял левую руку с локтя раненой правой, которую поддерживал, поднял указательный палец на уровень носа и, улыбаясь, поводил им влево-вправо. Поднялся, протянул, насколько возможно, правую для прощания и проговорил: «До встречи через минимум три года». У Б.Б. оставались секунды на последнюю реплику, он был в растерянности, сделал, лишь бы отдалить поражение, глупый — а какие тут могут быть неглупые? — ход: «Я могу подвезти вас до университета, меня ждет внизу машина отца». — «Благодарю, но и я могу подвезти вас, меня ждет служебная». Мат.
Степанов был не нужен Б.Б., ему был нужен Жирмунский. И Б.Б. Жирмунского имел, с самого начала университета, сперва как отцова знакомого и коллегу, знавшего его с детства, а вскоре и заставив обратить на себя внимание серьезностью академических намерений и целеустремленностью. Забегая вперед, скажу, что Жирмунский готов был пойти в его научные руководители, если бы Б.Б. выбрал темой диссертации своих трубадуров. Он не выбрал, так что, как видите, и практически Степанов был ему ни к чему. Безусловно, тут ко всему еще срабатывал глотательный инстинкт: почему не иметь Степанова, если можно? Но в том-то и дело, что на стезе, постланной под ноги Б.Б., Степанов был более отрицательной, чем положительной величиной. От него если и могла зависеть карьера, то должностная, которая Б.Б. была абсолютно чужда, а не академическая, которую единственно он преследовал и для которой Жирмунского хватало за глаза и за уши. Приближение же к Степанову могло даже бросить тень на его репутацию в среде честных, политически чистых филологов. А несмотря на то, что честные и незапятнанные на посты, которых они заслуживали, не допускались и вообще содержались под определенным идеологическим прессом, определенный террор порядочности — как часть общеинтеллектуального террора их среды — был академической реальностью.
Например, не-члены партии несли свое не-членство, как знамя, и относились к нему, как один мой знакомый, православный татарин, к католичеству: «У нас, — любил он в подпитии сказать, — слава богу, крест. Крест, слава богу, а не крыщ, прости господи». Матлингвист Тополянский, Найманов приятель, услышав, что я дружу с Ренатой Ц., и наведя справки о моей политической физиономии, просил передать недоумение, непонимание, а если откровенно, то неодобрение близких отношений «с человеком, вступившим в партию из карьерных соображений». А я ее знал со школы, хрупкую, изящную, с нежным, не в пример Тополянскому, голоском, она служила в Институте археологии, бредила раскопками в Монголии, и все ее карьерные планы сводились к тому, чтобы получить разрешение туда раз в год ездить, и непременным условием этого был партийный билет. Лучше бы, конечно, как Тополянский, удержаться, лучше, как он, недополучить, но ведь слабость — и за это остракизм? За такую награду, как Монголия? Что такое наша кромешная коммунистическая партия, мы знаем, однако ведь и ваша беспартийность — как-то она «по-партийному сурова», товарищи. Да и не ходи тогда, если ты чистый, к члену КПСС Степанову с просьбами вполне личными. А то прекрасно шли и, просимое получив, фыркали по поводу недостаточной строгости и глубины его книги о Лорке и статей о Сервантесе: «Ну что вы хотите, интернациональная бригада, над всей Испанией безоблачное небо», — и еще более презрительно по поводу его административных успехов: «Что и говорить, партия наш рулевой». И Степанов, прекрасно об этом зная, тем не менее всегда старался выполнить их просьбы как можно удовлетворительнее.





