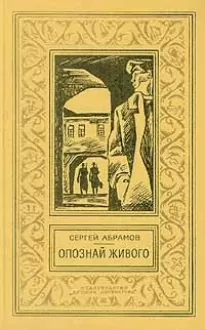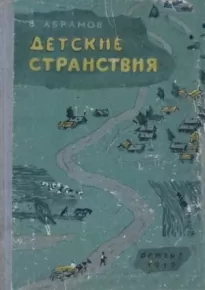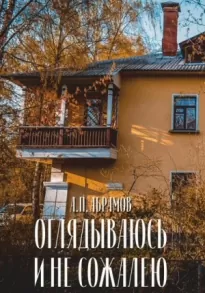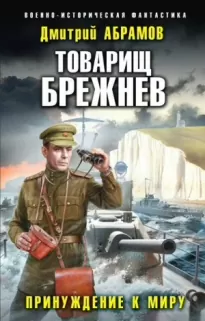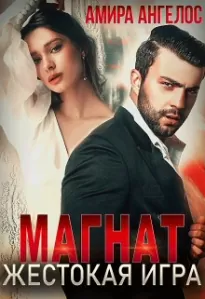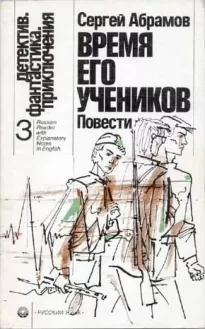Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект
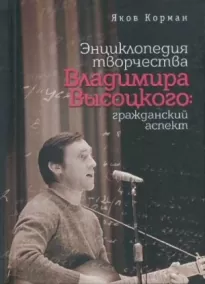
- Автор: Яков Корман
- Жанр: Биографии и Мемуары / Энциклопедии / Современные российские издания
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект"
Применительно к теме казни будет уместно процитировать также «Египетскую марку» (1928) Мандельштама, где дается описание сцены одного из самосудов, типичных для 1917 года: «По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. <…> там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они шли походкой адъютантов. Между ними — чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. Маткой этого странного улья был тот, кого бережно подталкивали, осторожно направляли, охраняли, как жемчужину, адъютанты.
Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши.
Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши. <.. >
Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную доставку перхотной вешалки на берег Фонтанки к живорыбному садку отвечали решительно все. Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника, который ценился дороже соболя и куницы, как его самого взяли бы в переделку, под подозрение, объявили бы вне закона и втянули бы в пустое карэ. Тут работал бондарь-страх».
Последняя строка явно напоминает «Грифельную оду» (1923): «Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг». А бондарь, то есть ремесленник, является предшественником «кремлевского горца», который «как подкову, дарит за указом указ», и «мастера пушечного цеха» из наброска 1936 года.
Согласно комментарию Олега Лекманова: «…стоит отметить похожесть, взаимозаменяемость того, кого ведут топить и тех, кто ведет топить. У жертвы — “ватные плечи и перхотный воротник”, у палачей — “апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью” и “плечи-вешалки” (в последнем слове, возможно, актуализируется зловещее значение — “вешать”)»[3002][3003] [3004].
А теперь сравним атрибут палачей — «апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью» с описанием палача в стихотворении Высоцкого (1977): «Он был обсыпан белой перхотью, как содой, / Он говорил, сморкаясь в старое пальто».
Кроме того, Мандельштам отмечает безликость жертвы в толпе: «Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения…». Тот же мотив — у Высоцкого в стихотворении «Тушеноши» (1977): «И кто вы суть? Безликие кликуши? <.. > Кончал палач — дела его ужасны, / А дальше те, кто гаже, ниже, плоше, / Таскали жертвы после гильотины: / Безглазны, безголовы и безгласны / И, кажется, бессутны тушеноши, — / Как бы катками вмяты в суть картины».
Также у Мандельштама сказано: «Затылочные граждане <.. > неумолимо продвигались к Фонтанке». А Фонтанка в «Египетской марке» выступает как место казни: «Вот и Фонтанка — Ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями…». Поэтому и позднее «лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг» («Стансы», 1935)98. Заметим еще, что эпитет лтповый в том же 1935 году встретится в стихотворении «Еще мы жизнью полны в высшей мере…» в сочетании с мотивом чумы: «Еще стрижей довольно и касаток, / Еще комета нас не очуми-ла, / И пишут звездоносно и хвостато / Толковые, лиловые чернила» (речь идет о награждении главного редактора «Комсомольской правды» орденом Красной Звезды в честь десятилетия газеты99).
Теперь вернемся еще раз к циклу «Армения»: «Сытых форелей усатые морды / Несут полицейскую службу / На известковом дне».
Известковое дно здесь указывает на Ленина, в мозгу которого была обнаружена известь. Следовательно, «сытые форели», которые «несут полицейскую службу», — это караул, охраняющий мавзолей Ленина (в 1930 году был построен каменный мавзолей, и в том же году появился цикл «Армения»). В подобном ключе необходимо рассматривать и следующие строки: «О порфирные цокая граниты, / Спотыкается крестьянская лошадка, / Забираясь на лысый цоколь / Государственного звонкого камня»: «Каменному мавзолею предшествовали два деревянных <.. > Мавзолей получил тогда вид “темносерого куба, увенчанного небольшой трехсторонней пирамидой”[3005], с чем, возможно, связано появление метафоры-сравнения: “Спит Москва, как деревянный ларь” (1924). Начавшись деревянным ларем, тема мавзолея через государственный звонкий камень выйдет к метонимическому образу горы, чтобы в 1937 г. завершиться пустячком пирамид, возведенным в законен (и неслучайно в «Путешествии в Армению» упоминается «пирамидальный Дом Правительства»).
Другие строки из того же цикла: «А в Эривани и в Эчмиадзине / Весь воздух выпила огромная гора», — объясняются тем, что «внутри горы бездействует кумир» (1936), и именно он выпил весь воздух (ср. также в «Путешествии в Армению», 1931
— 1932: «Царь Шапух <…> взял верх надо мной, и — хуже того — он взял мой воздух себе. Ассириец держит мое сердце»).
Неудивительно, что этот мотив постоянно разрабатывается Мандельштамом: «И бороться за воздух прожиточный — / Эта слава другим не в пример» («Стихи о неизвестном солдате», 1937), «И, спотыкаясь, мертвый воздух ем» («Куда мне деться в этом январе?», 1937), «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух» («Сёстры — тяжесть и нежность…», 1920), «Нельзя дышать, и твердь кишит червями» («Концерт на вокзале», 1921), «Мне с каждым днем дышать всё тяжелее» («Сегодня можно снять декалькомани…», 1931), «И в голосе моем после удушья…» («Стансы», 1935), «Душно — и все-таки до смерти хочется жить» («Колют ресницы…», 1931).
В произведениях Высоцкого также представлены мотивы отсутствия воздуха и удушья: «Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю» /3; 167/, «Задыхаюсь, гнию — так бывает» /2; 271/, «Я задохнусь здесь, в лабиринте: / Наверняка / Из тупика / Выхода нет!» /3; 154/, «И кислород из воздуха исчез» /3; 224/, «Дайте мне глоток другого воздуха!» /2; 167/, «Спасите наши души! / Мы бредим от удушья» /2; 45/.
Сюда примыкает мотив «ватной стены», которая не пропускает никакие звуки.
Мандельштам: «Наши речи за десять шагов не слышны»[3006][3007] («Мы живем, под собою не чуя страны…», 1933), «Наступает глухота паучья» («Ламарк», 1932[3008]), «И потери звуковые / Из какой вернуть руды?» («Дрожжи мира дорогие…», 1937).
Высоцкий: «Только кажется, кажется, кажется мне, / Что пропустит вперед весна, / Что по нашей стране, что по нашей стране / Пелена спадет, пелена» («За окном
- / Только вьюга, смотри…», 1970), «Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму» («Затяжной прыжок», 1972), «Сигналим зря — пурга, и некому помочь» («Дорожная история», 1972), «Не дозовешься никого — / Сигналишь в вату» («51 груз растряс и растерял…», 1975).
Кстати, намерение младшего поэта «Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму» как бы противопоставляется безнадежной интонации старшего: «Я пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил» (из разговора с литературоведом Сергеем Рудаковым)[3009].
Соответственно, они одинаково описывают эту «паучью глухоту»: «И как пауте ползет по мне <…>Я слышу грифельные визги <…> И я теперь учу язык, / Который клёкота короче» («Грифельная ода», 1923; с. 467 — 468) ~ «Всё ползло и клокотало. / Место гиблое шептало: / “Жизнь заканчивай!”» («Две судьбы», 1977 /5; 462/); и говорят о чуждости им советской реальности.
Лирический герой Высоцкого «в мир вкатился, чуждый нам по духу» («Песня автомобилиста», 1972), «попал в чужую колею» (1972) и пригнал коней к «чужому дому» (1974). Мандельштам же упоминает новое небо — «чужое и безбровое» («А небо будущим беременно…», 1923) — и признаётся: «Какая мука выжимать / Чужих гармоний водоросли!» («Грифельная ода», 1923), «С миром державным я был лишь ребячески связан, / Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья — / И ни крупицей души я ему не обязан, / Как я ни мучил себя по чужому подобью» (1931).
Поэтому оба поэта стараются дистанцироваться от такой реальности.
Высоцкий: «Я не желаю в эту компанью» («В лабиринте», 1972).
Мандельштам: «Я не хочу средь юношей тепличных / Разменивать последний грош души» («Стансы», 1935).
В последней цитате «речь идет о разновозрастных литераторах, вступивших в 1934 г. в только что образованный Союз писателей и в том же году принявших Устав члена СП, согласно которому единственным методом советской литературы признается соцреализм (напомним, что Мандельштам порвал с писательскими организациями в 1929 г.; см. “Четвертую прозу”)»[3010].
Оба чувствовали себя изгоями: «Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье» («Сохрани мою речь навсегда…», 1931), «Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем…» (из письма к отцу, Воронеж — Ленинград, июль 1935)[3011] ~ «Могу и дальше: в чем-то я изгой» («Лекция о международном положении», 1979; АР-3-135), «Мы — как изгои средь людей» («Мистерии хиппи», 1973); и ощущали свою ничтожность на фоне тоталитарного монстра: «Я — трамвайная вишенка страшной поры / И не знаю, зачем я живу» («Нет, не спрятаться мне от великой муры…», 1931) ~ «И мы молчим, как подставные пешки» («Приговоренные к жизни», 1973).
Выскажется Высоцкий и о страшной поре: «Мы — тоже дети страшных лет России» («Я никогда не верил в миражи…», 1979)[3012]. Впрочем, мотив страха нередко носит личностный характер: «Куда как страшно нам с тобой…» (1930) ~ «Ах, как задергалось нутро! / Как страшно бедолаге!» («Ошибка вышла», 1976[3013][3014]).
А растерянность Мандельштама: «И не знаю, зачем я живу», — также находит аналогию у Высоцкого: «Куда я, зачем? Можно жить, если знать» («Машины идут, вот еще пронеслась…», 1966), «Что искать нам в этой жизни, / Править к пристани какой?» («Слева бесы, справа бесы…», 1976), «Зачем, зачем я жил до сих пор?» («Дельфины и психи», 1968). Причем черновой вариант строки «Я — трамвайная вишенка страшной поры»: «Я — вишневая косточка детской игры» (с. 479), — вновь напоминает «Приговоренных к жизни»: «Мы в дьявольской игре — тупые пешки» /4; 303/.
Как вспоминала Надежда Яковлевна, «О.М. утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав»1°9. Об этом же позднее будет говорить Высоцкий: «И смирились, решив: всё равно не уйдем!» («Конец охоты на волков»), «Ведь погибель пришла, а бежать — не суметь!» («Погоня»).
Оба чувствовали всеобщее онемение, сковавшее страну: «Я глубоко ушел в немеющее время» («Как светотени мученик Рембрандт…», 1937) ~ «Душа застыла, тело затекло» («Приговоренные к жизни», 1973); и говорили об ужасе тоталитарного режима: «Под кожевенною маской / Скрыв ужасные черты…» («Фаэтонщик», 1931) = «За маской не узнать лица», «Он страшен и очень опасен» («Вооружен и очень опасен», 1976; АР-6-178, 186). Причем каждый из этих персонажей сравнивается с дьяволом: «Словно дьявола погонщик» ~ «Он, видно, с дьяволом на ты», — как и в стихотворении «Тянули жилы, жили-были…» (1935): «И дирижер, стараясь мало, / Казался чертом средь людей». Вспомним образ «злого дирижера» из стихотворения Высоцкого «Он вышел — зал взбесился…» (1972): «Над пультом горбясь злобным Бонапартом, / Войсками дирижер повелевал» (АР-12-76)[3015][3016]. А сравнение советской власти с Наполеоном в скрытом виде присутствует и в стихотворении «Полюбил я лес прекрасный…» (1932): «Тычут шпагами шишиги, / В треуголках носачи, / На углях читают книги / С самоваром палачи». Известно, что треуголка была атрибутом Наполеона, но, как пишет Л. Городецкий: «В ряде текстов Мандельштама сквозь образ Наполеона просвечивает образ Сталина: “ТЫЧУТ [ср. в Эпиграмме: ТЫЧЕТ — Л.Г.] шпагами шишиги, В ТРЕУГОЛКАХ НОСАЧИ [конечно, из-под “маски” просвечивает: усач(и) = распространенное прозвище Сталина — Л.Г.]»Ш. К тому же в стихотворении «Тянули жилы…» обнаруживаются и другие политические мотивы: «На базе мелких отношений» = «Там живет народец мелкий» («Полюбил я лес прекрасный…»); «Производили глухоту» = «Наступает глухота паучья» («Ламарк»); «На первомайском холоду» = «Празднуют первое мая враги» («Как на Каме-рске…»; черновик — с. 493).