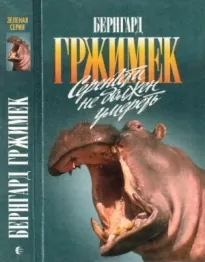Повесть о первом подвиге
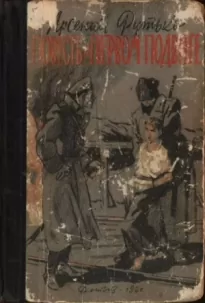
- Автор: Арсений Рутько
- Жанр: Детская проза
- Дата выхода: 1962
Читать книгу "Повесть о первом подвиге"
18. Весточка от самого дорогого…
Жизнь нашей семьи в тот год была наполнена заботами о куске хлеба, стоянием в очередях у кичигинской и карасевской лавок, болезнью Подсолнышки и ожиданием писем отца. Эти письма, написанные на бумажных лоскутках, с густыми цензурными вымарками, приходили редко. Но от них появлялась надежда на скорую встречу.
Только одно письмо пришло не по почте. Его принес чернобородый человек с темными цыганскими глазами, с серым, землистым лицом.
Когда он вошел, мама растапливала печку, малыши играли на кровати Подсолнышки, а Оля сидела у окна и чинила мою рубашку.
Вошедший постоял на пороге, рассматривая нас, глаза у него странно блестели. Мамка оглянулась и, словно желая защитить детей от неприятно пристального взгляда, пошла от печки к порогу.
— Не обессудьте, — сказала она. — Подать нечего.
Но чернобородый легко и ласково отстранил ее сильной рукой и, улыбнувшись, шагнул в комнату.
— Эту знаю, — басом сказал он, глядя на Подсолнышку.
Бас у него был глубокий и чистый, с мягкими интонациями, — он так противоречил его внешнему облику, что я сначала не понял, кто говорит.
А незнакомец повернулся ко мне, улыбнулся и сказал:
— И тебя знаю… И вас знаю, Дарья Николаевна. А вот этих двоих… — усмехаясь в свои густейшие черные усы, посмотрел на Олю и Стасика, — ей-богу, не могу узнать.
Поклонился матери и, протягивая руку, спросил:
— Перепугал я вас?
— Да нет… что же… помилуйте, — растерянно сказала мать.
— Вид-то, наверное, у меня страшноватый. Там не очень-то роскошно одевают… — Он принялся расстегивать свой кожушок, руки у него были очень худые и белые. Расстегнувшись, сунул руку за пазуху, разорвал подкладку и вынул какую-то бумажку. — Вот, Дарья Николаевна, весточка вам от дорогого человека…
— От Дани? — У матери перехватило голос.
— Да, от Данилы Никитича… Вот… Скоро думает увидеться.
— Так ведь… еще двенадцать лет…
— Это по их счету, Дарья Николаевна, — мягко сказал чернобородый. — А по-нашему — меньше…
Посмеиваясь в усы, ласково поглядывая на нас, он ждал, пока мама прочтет письмо.
Она сидела на табурете у плиты и, изредка вытирая слезы, читала — листочки папиросной бумаги дрожали у нее в руке.
— Тут у меня еще поручение есть, Дарья Николаевна, — сказал он, когда мама прочла письмо. — Помогите, пожалуйста, выполнить… Как мне найти Надежду Максимовну Рощину? Ее дело тогда по состоянию здоровья было выделено. Ее должны были из тюрьмы освободить…
Он смотрел на мать виноватым детским взглядом, и не верилось, что несколько минут назад именно эти глаза так нас напугали.
— Надежду Максимовну? — переспросила мать и беспомощно оглянулась на меня.
И только тогда лицо незнакомого человека показалось мне знакомым: не его ли портрет — только без бороды и усов — висел над кроватью нашей Джеммы? Правда, на той фотографии он был в студенческой тужурке, совсем молодой.
— Да… дело, видите ли… я Надежду Максимовну знал, — смутившись, ответил он. — В Петербурге… давно… Ты, Даня, не проводишь меня к ней?
Он так просительно смотрел мне в глаза, что я не мог сразу сказать то, что сказать было необходимо. Я ответил упавшим голосом:
— Хорошо… провожу…
Он выпрямился, вздохнул с облегчением:
— Ну, вот и добро.
Спотыкаясь на каждом слове, я пробормотал:
— Только ведь… она… она…
Он вздрогнул. И, видимо, по выражению моего лица понял страшную правду и сразу весь осунулся, словно постарел сразу на несколько лет. Заторопился, пряча глаза, застегивая дрожащими пальцами кожушок.
— Ну… ну… такое дело… до свиданья. Дарья Николаевна… я еще зайду… я ведь, наверное, теперь здесь жить буду… пока опять не посадят. — И улыбнулся через силу.
— А родные? — спросила мать.
— Никого…
— Так вы посидите… согрейтесь, — засуетилась мама.
— Оля, поставь чай.
— Спасибо… Дарья Николаевна… Не хочется.
— А куда же вы?
— Не знаю.
Я подскочил к двери, схватил свой пиджачишко, шапку.
— Я вас провожу, — сказал я. И повернулся к мамке, которая смотрела вопросительно. — В сапожную…
— Верно… верно, сынок…
Так вошел в нашу жизнь еще один замечательный человек. Бескорыстный, мужественный, добрый, бесстрашный в борьбе, он стал для меня живым воплощением того облика революционера, который сложился к тому времени в моем представлении. И я думаю, что не только моя фантазия наделяла его чертами Овода и Гарибальди — нет, в нем действительно повторялись их лучшие качества: любовь к народу, мужество и воля к борьбе.
Он поселился в маленькой комнатушке на окраине и нанялся работать на чугунолитейный. Сбрив свою окладистую бороду и усы, он так переменился, что когда несколько дней спустя я встретился с ним в сапожной, то не узнал его.
Звали этого человека Петр Максимилианович Сташинский, он был сыном крупного, известного петербургского адвоката, но, поссорившись с монархистом-отцом, ушел из семьи и посвятил жизнь революции.
Он стал часто заходить к нам.
Очень хорошо, проникновенно и душевно пел он народные русские и украинские песни. Мать не раз, шутя, говорила, вытирая слезы, что ему бы не революционером, а протодиаконом быть: «Вот бы богато жили!»
— А я и так не бедно живу, — отзывался он.
Особенно любила слушать его песни Подсолнышка. Он приходил к нам обычно по воскресеньям, снимал у двери свой уже промаслившийся кожушок, здоровался и брал Подсолнышку на руки. Своих детей у него никогда не было. Надежда Максимовна, которую он, видимо, очень любил, но о которой теперь ни с кем не говорил, умерла, и всю нежность своей души он отдавал детям. Позже, при встречах с другими революционерами, я всегда вспоминал Петра Максимилиановича и задавал себе вопрос: почему все преданные революции люди так любили детей? Потому ли, что у многих из них из-за трудностей их революционного дела никогда не было своей семьи, потому ли, что именно ради детей, в конечном счете, и совершалась революция?
Петр Максимилианович ходил с Подсолнышкой на руках по комнате из угла в угол — их тени скользили по стенам и потолку — и тихонько пел. Особенно любил он Шевченко, которого считал величайшим поэтом. Ознобная дрожь пробегала у меня по спине и слезы непонятного восторга набегали на глаза, когда он пел:
Поховайте, та вставайте, кайданы-ы порвитэ
И вражою-ю злою кровью-ю…
Перестав петь, он принимался негромко рассказывать о страшной судьбе Шевченко, о том, как запороли насмерть Полежаева[8], читал его стихи, рассказывал о декабристах и Ленине, о своих товарищах по революционной работе и каторге. И вместе с его словами светлые образы этих людей входили в нашу комнату. Никому в жизни я так не обязан своим развитием, как этому человеку, хотя прожил он в нашем городе обидно мало: от первого его появления у нас до того дня, когда тридцать некрашеных гробов опустили в братскую могилу на площади, прошло около полутора лет…
Рассказывал дядя Петя и о жизни в Тобольской каторжной тюрьме, об этапах и пересылках, о бессмысленной жестокости конвоя и тюремщиков, рассказывал об отце. И после его рассказов отец становился мне еще дороже, чем раньше. Вероятно, то же чувство испытывала и Подсолнышка. В тот год она больше, чем раньше, тосковала о нем.
Однажды, сидя на руках у Петра Максимилиановича, наслушавшись его рассказов, она задумалась и вдруг посмотрела в потолок и сказала неожиданную и странную фразу:
— Пусть… пусть паутинка летит далеко, а папа пусть живет дома дружно…
Все посмотрели на нее с удивлением, ее слова звучали как заклинание, а Петр Максимилианович, покачав головой, сказал:
— Ой, Подсолнышка, боюсь, что не будет твой папка жить дружно с Барутиными да Хохряковыми…
И, чтобы отвлечь девочку от грустных дум, принялся рассказывать ей о том, какой большой город Петербург, какие там дома, какие театры.
Мы особенно любили слушать его рассказы о театрах, он знал множество пьес и представлял их в лицах с неподражаемым, как, во всяком случае, мне казалось, мастерством. Однажды он очень долго и с увлечением говорил о цирке, показывал фокусы с картами, которые двигались сами собой, с медными монетами, которые пропадали на глазах и вдруг оказывались у Подсолнышки в кармане.
Сашенька смотрела во все глаза, очень много смеялась, а потом задумалась, склонив на плечо свою беленькую головенку, и серьезно спросила:
— Дядя Петя! А церковь и цирк — это одна фамилия?
Мама была напугана этим безбожным вопросом и даже, как мне показалось, обиделась на Петра Максимилиановича. Он, расхохотавшийся было, заметил ее опечаленное лицо и, перестав смеяться, разъяснил Подсолнышке разницу между церковью и цирком.
Никогда у нашей семьи, ни до этого, ни после, не было такого искреннего друга, — может быть, потому, что все мы перенесли на этого человека часть нашей любви к отсутствующему отцу. Нас заражала его веселая и мужественная вера в то, что все впереди — хорошо. И он, кажется, чувствовал себя среди нас как дома. А Сашеньку, нашу синеглазую Подсолнышку, он любил словно родную дочь. Когда она заболела, он не находил себе места, водил к нам своего знакомого, сосланного в наш город петербургского врача, покупал лекарства, приносил скромные лакомства, какие можно было достать в то голодное и нищее время. Однажды, помню, принес плитку шоколада «Золотой ярлык» в сверкающей обертке. Эта плитка была как бы кусочком солнца, ворвавшимся в нашу темную жизнь.
Разломив плитку шоколада пополам, он взял на руки Сашеньку и Стасика, дал им и, поглядывая то на одного, то на другого, сам взволнованный их радостью, ходил с ними по комнате, огромный, тяжелый, — в шкафу при каждом его шаге вздрагивали и звенели стаканы.
На столе горела семилинейная керосиновая лампа, тень большого человека пересекала стены, заползала, ломаясь посередине, на потолок, наполняла собой весь дом.
Оля сидела в углу у печки и оттуда, не отводя взгляда, с благодарностью смотрела на Петра Максимилиановича, на Стасика, доверчиво прижимавшегося к плечу этого сильного, доброго человека.
С появлением Петра Максимилиановича Оля немного замкнулась, как бы отошла от нашей семьи, старалась стать незаметнее, словно вдруг опять почувствовала себя чужой.
В тот вечер я впервые подумал об этом и почувствовал себя виноватым. Отошел к печке, сел рядом с Олей, осторожно, так, чтобы никто не видел, положил свои пальцы на ее руку. Она не шевельнулась, но сжала мои пальцы. Так мы и сидели, не разнимая рук, и смотрели на разбаловавшихся малышей, на Петра Максимилиановича.
— Вот бы все такие… — шепотом сказала Оля, обернувшись на мгновение ко мне.
А Сашеньке становилось хуже — она таяла с каждым днем, все бессильнее становились ее тоненькие, как щепочки, ручонки. Мне иногда казалось, что они могут у нее переломиться, если она поднимет что-нибудь тяжелое.
…В эту зиму меня с мельницы выгнали. В воскресенье, под Новый год, к нам снова явился Мельгузин, одетый в добротный меховой пиджак и меховой же картуз. Чисто выбритое ноздреватое лицо его было приветливо и ласково, под серыми усиками шевелилась улыбка. Но в живом, нетронутом бельмом глазу, в темной коричневой глубине его стояла тоска, горела искорка волчьего одиночества и беспокойства.