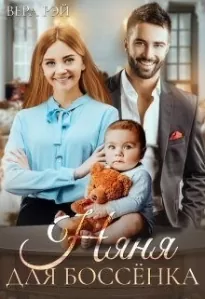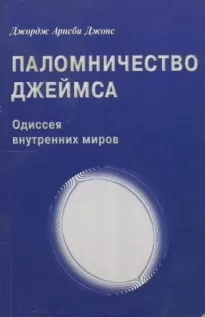Мир Данте. Том второй (малые произведения)

- Автор: Алигьери Данте
- Жанр: Древнеевропейская литература
- Дата выхода: 2002
Читать книгу "Мир Данте. Том второй (малые произведения)"
КНИГА ВТОРАЯ
I. Снова побуждая свой ум и берясь за перо для продолжения своего честного труда, мы прежде всего заявляем, что блистательная италийская речь приличествует столько же прозаическим, сколько и стихотворным произведениям. Но так как применяющие ее к прозе берут ее больше у слагателей стихов и так как сложенному стихами приходится, видимо, оставаться образцом для прозаиков, а не наоборот (что, как видно, дает некоторое преимущество стихотворцам), мы сначала разберем метрическую народную речь, рассуждая в том порядке, какой наметили мы в конце первой книги. Итак, сперва посмотрим, все ли стихотворцы должны пользоваться этой народной речью. И на первый взгляд кажется, что должны, потому что всякий слагающий стихи должен свои стихи по мере сил украшать; следовательно, раз нет ничего более великолепного для их украшения, чем блистательная народная речь, то, видимо, каждый стихотворец должен ею пользоваться. Кроме того, все в своем роде лучшее при смешении с низшим не только ничего у него не отнимает, но, видимо, его улучшает; следовательно, если такой стихотворец, пусть и невежественно слагающий стихи, примешивает к своему невежеству эту речь, он не только поступает хорошо, но, видимо, поступает именно так, как нужно. Гораздо больше нужна помощь тем, кто способны на малое, чем тем, кто способны на многое! Итак, очевидно, всем слагающим стихи допустимо пользоваться этой речью. Но это глубочайшее заблуждение; потому что даже самые выдающиеся поэты не всегда должны облекаться этой речью, как это можно будет усмотреть из дальнейших рассуждений. Эта речь требует подходящих ей мужей, подобно и другим нашим обычаям и одежде; величие требует великих мужей, пурпур — именитых, — так и эта речь ищет выдающихся по дарованию и знаниям, а прочими пренебрегает, как будет показано в дальнейшем. Ибо все обычно бывает присуще нам либо по роду, либо по виду, либо по особи, как, например, чувства, смех, военное дело. Но эта речь не присуща нам ни по роду, ибо тогда она была бы присуща и людям грубым и примитивным; ни по виду, ибо она была бы присуща всем людям, о чем не может быть и вопроса: никто ведь не скажет, что она присуща горцам в их разговорах о деревенских делах; значит, она присуща нам по особи. Но ничто не присуще особи иначе как по ее собственным достоинствам, так, например, торговля, военное дело и правление; поэтому, если присущее определяется достоинствами, то есть достойными, и одни могут быть достойными, другие более достойными, третьи самыми достойными, ясно, что хорошее присуще достойным, лучшее — более достойным, наилучшее — самым достойным. А так как язык служит необходимым орудием нашей мысли не иначе как конь всаднику и наилучшим всадникам в силу сказанного присущи наилучшие кони, то и наилучший язык присущ наилучшим мыслям. Но наилучшие мысли невозможны без наличия дарования и знания; следовательно, наилучший язык не присущ никому, кроме обладающих дарованием и знанием[684]. Итак, не всем слагающим стихи, поскольку большинство из них стихотворствуют без знания и дарования, будет присущ наилучший язык, а следовательно, и наилучшая народная речь. Поэтому, если она подходит не всем, пользоваться ею должны не все, так как никто не должен поступать неподобающим образом. И когда говорят, что всякий должен по мере сил украшать свои стихи, мы признаем это справедливым; но ни быка под чепраком, ни свинью с перевязью мы не назовем украшенными, а, напротив, скорее посмеемся над таким уродством; украшение ведь состоит в добавлении чего-нибудь присущего. Когда на это говорится, что примесь высшего к низшему идет на пользу, мы считаем это справедливым, если разница становится незаметной, например если золото спаивается с серебром; но если разница остается, то низшее еще больше принижается, например когда красивые женщины примешиваются к безобразным. Поэтому, если мысль стихотворцев, постоянно расходящаяся с выражающими ее словами и не будучи наилучшей, сочетается с наилучшей народной речью, она окажется не улучшенной, но ухудшенной, подобно презренной женщине, наряженной в золото или шелка.
II. После того как мы показали, что не все, но только самые выдающиеся стихотворцы должны применять блистательную народную речь, следует показать, пригодна ли она для всяких предметов или же нет; и если не для всяких, то указать по отдельности, какие ее достойны. В связи с этим надо сначала разъяснить, что именно мы называем достойным. Так вот, достойным мы называем то, что обладает достоинством, так же как благородное благородством; и если по одежде сколько-нибудь познается в нее одетый, то, познав достоинство, мы познаем и достойного. Достоинство ведь есть итог, или предел, заслуженного: так, если кто-нибудь поступает хорошо, мы сочтем его по достоинству хорошим, а если дурно — дурным; так, хороший воин достоин победы, хороший властитель — власти, а вот лжец достоин позора, а разбойник — смерти. Но так как при сравнении и хороших, да и всяких других поступков оценивается, кто поступает хорошо, кто лучше, кто всего лучше, кто худо, кто хуже, кто всего хуже, и при такого рода сравнениях поступки оцениваются лишь по итогу заслуженного, который, как сказано, мы называем достоинством, то ясно, что достоинства определяются в зависимости от их величины и оказываются одни большими, другие большими, третьи наибольшими; и, следовательно, одно оказывается достойным, другое более достойным, третье самым достойным. А так как сравнение достоинств не делается относительно одного и того же предмета, но относительно разных, так что более достойным мы считаем то, что достойно большего, а наиболее достойным то, что достойно наибольшего, поскольку ничего не может быть его достойнее, ясно, что по естественной необходимости наилучшее достойно наилучшего. Отсюда, так как та речь, которую мы называем блистательной, есть наилучшая из других народных речей, следует, что быть изложенным этой речью достойно лишь то, что мы считаем наиболее достойным изложения. Теперь исследуем, что же это такое. Для того чтобы это стало ясно, следует знать, что, поскольку человек одушевлен трояко, а именно душой растительной, животной и разумной[685], он идет и тройным путем. Ибо, поскольку он растет, он ищет пользы, в чем он объединен с растениями; поскольку он живое существо — удовольствия, в чем он объединен с животными; поскольку он существо разумное, он ищет совершенства, в чем он одинок или же объединяется с естеством ангельским[686]. Этими тремя началами определяются все наши действия. И так как в каждого рода действиях одни оказываются значительнее, другие наиболее значительными, то наиболее значительные должны излагаться наиболее значительно и, следовательно, наиболее значительной народною речью. Но следует разъяснить, что такое наиболее значительное. Во-первых, в смысле пользы: здесь, если хорошенько разобраться, мы найдем, что целью всех ищущих пользы оказывается не что иное, как спасение. Во-вторых, в смысле удовольствия: здесь мы говорим, что наибольшее удовольствие состоит в том, чтобы удовольствовать наши желания самым из них ценным, то есть любовным наслаждением[687]. В-третьих, в смысле совершенства, а это вне всякого сомнения — добродетель. Поэтому эти три предмета, а именно спасение, любовное наслаждение и добродетель, являются первенствующими и говорить о них, как и о том, что ближайшим образом к ним относится, то есть о воинской доблести, любовном пыле и справедливости, следует с наибольшей значительностью. Только это, если память нам не изменяет, и воспевали народной речью блистательные мужи, именно: Бертран де Борн[688] — брани, Арнаут Даниель[689] — любовь, Герард де Борнель[690] — прямоту, Чино да Пистойя — любовь, друг его — справедливость[691]. Вот говорит Бертран: «Non posc mudar c'un cantar non exparja»[692]. Арнаут: «L'aure amara — fal bruol brancuz — clairir»[693]. Герард: «Per solaz reveillar Che s'es trop endormitz»[694]. Чино: «Digno sono eo de morte»[695]. Друг его: «Doglia mi reca nello core ardire»[696]. Но браней, по-моему, не воспевал досель ни один италиец. Из этого ясно, чту надлежит воспевать возвышеннейшей народной речью.
III. Теперь же попытаемся проследить поскорее, каким образом следует нам слагать в стихи то, что достойно столь высокой народной речи. И вот, желая разъяснить размер, каким оказываются достойны слагаться эти стихи, нам прежде всего надо напомнить, что творцы поэтических произведений на народной речи сочиняли их разнообразными размерами: кто канцонами, кто баллатами, кто сонетами, кто вне законов и правил стихосложения, как будет показано ниже. Из всех же этих размеров превосходнейшим мы считаем размер канцон; поэтому, если превосходнейшее достойно превосходнейшего, как доказано выше, достойное превосходнейшей народной речи достойно превосходнейшего размера и, следовательно, должно быть выражаемо в канцонах. А то, что размер канцон соответствует сказанному, можно определить многими доводами. Во-первых, хотя всякое наше стихотворение есть канцона (песнь), но одни только канцоны получили такое наименование, что произошло не без древнего предвидения. Затем, все, что само по себе создает то, для чего оно создано, явно благороднее того, что нуждается в чем-нибудь извне; но канцоны сами собой создают все, что нужно, чего не делают баллаты, они ведь нуждаются в плясунах, для которых они и создаются; поэтому канцоны следует считать благороднее баллат и, следовательно, их размер благороднейшим из всех других, хотя никто не сомневается, что по благородству баллаты стоят выше сонетов[697]. Во-вторых, более благородным считается то, что приносит большую честь своему создателю; но канцоны дают своим создателям больше, чем баллаты; итак, они благороднее и, следовательно, размер их благороднее всех других. Кроме того, все наиболее благородное тщательнее всего сохраняется; но из всех поэтических произведений тщательнее всего сохраняются канцоны, что ясно знакомым с книгами; поэтому всего благороднее канцоны, а следовательно, размер их самый благородный. К тому же в произведениях искусства самое благородное то, которое заключает в себе все искусство целиком; следовательно, раз поэтические произведения — это произведения искусства, целиком заключающегося только в канцонах, канцоны наиболее благородны и, таким образом, их размер из всех самый благородный. А то, что в канцонах заключается все поэтическое искусство, явствует из того, что все части искусства, какие имеются во всех других произведениях, имеются и в канцонах; но не наоборот. Очевидным же знаком справедливости наших слов является то, что все истекающее с высоты блистательных поэтических умов на уста находится только в канцонах. Из этого очевидно следует, что все достойное возвышеннейшей народной речи должно излагаться в канцонах[698].
IV. После того как мы потрудились, разбирая, кто и что достойно придворной народной речи, а также и какой размер мы удостаиваем высокой чести быть исключительно присущим высочайшей народной речи, мы, прежде чем перейти к другому, разъясним размер канцон, который многие применяют скорее случайно, чем по правилам искусства; и отворим мастерскую этого размера, который до сих пор был затронут вскользь, оставляя в стороне размер баллат и сонетов, так как его мы намерены осветить в четвертой книге нашего труда[699], когда мы будем рассуждать о средней народной речи. И вот, обдумывая сказанное, мы напоминаем, что неоднократно называли слагателей стихов на народной речи поэтами[700]; мы дерзнули на это, без сомнения, разумно, потому что они, конечно, поэты, если рассудить, что такое поэзия: она не что иное, как вымысел, облеченный в риторику и музыку[701]. Однако отличие их от великих, или правильных, поэтов в том, что великие творят по правилам речи и искусства, они же — как придется, о чем уже говорилось. Поэтому-то, чем ближе мы следуем великим поэтам, тем и правильнее сочиняем стихи. Ради этого, принимаясь за ученый труд, нам следует равняться по законам их ученой поэтики[702]. Итак, прежде всего мы требуем, чтобы каждый брал себе предмет по плечу, иначе, слишком понадеявшись на силу плеч, он споткнется и непременно шлепнется в грязь. Вот об этом-то и предупреждал Гораций, говоря в начале «Поэтики»: «Вы избирайте предмет...»[703] Но в том, о чем случится говорить, надо сделать выбор и решить, воспевать ли это слогом трагедии, или комедии, или элегии. Трагедией мы вводим более высокий слог, комедией более низкий, а под элегией разумеем слог несчастных. Для того, что оказывается необходимым воспевать слогом трагедии, надо применять блистательную народную речь и, следовательно, слагать канцону. А при слоге комедии брать или среднюю, а то и низкую народную речь; как это распознать, мы намерены показать в четвертой нашей книге. А при слоге элегическом нам следует применять только низкую народную речь. Но оставим другие слоги и будем теперь рассуждать как подобает о слоге трагическом. Трагическим слогом мы пользуемся, разумеется, тогда, когда с глубиною мысли согласуются как величавость стихов, так и возвышенность оборотов речи и изысканность слов. Поэтому если мы хорошенько припомним, что, как уже установлено, высшее достойно высшего, то и слог, названный нами трагическим, является высшим и предметы, выбранные нами для высшего воспевания, должны быть воспеваемы только этим слогом: а именно — спасение, любовь и добродетель[704] и то, что мы при этом мыслим, лишь бы это ни в коем случае не было опошлено. Пусть же каждый будет осмотрителен и распознает то, о чем мы говорим, и при намерении в совершенстве воспевать эти три или прямо и совершенно к ним примыкающие предметы приобщится Геликона[705] и, настроив струны на торжественный лад, тогда только и берется за плектр. Но достигнуть такой осмотрительности и распознавания — вот в чем задача и труд[706], так как без изощренного дарования и без усердия к искусству и навыка в науках это совершенно недостижимо. И таковы те, которых в шестой книге «Энеиды» поэт называет избранными богом, и возносимыми пламенной доблестью к небесам, и сынами богов, хотя и говорит иносказательно. И тут обличается глупость тех, кто при своем невежестве в искусстве и науке, полагаясь на одно лишь дарование, порывается к высшему воспеванию высшего; и пусть оставят они такую самонадеянность, а если они по природе либо по нерадивости сущие гуси, пусть не смеют подражать парящему к звездам орлу.