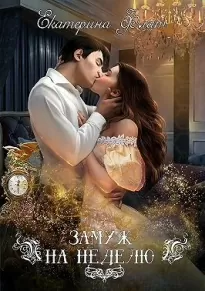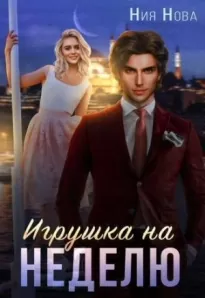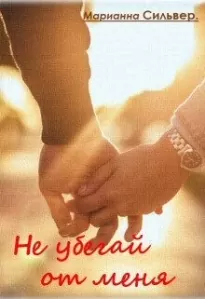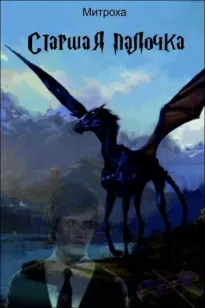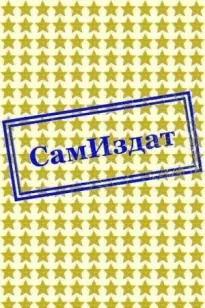Черные стяги эпохи
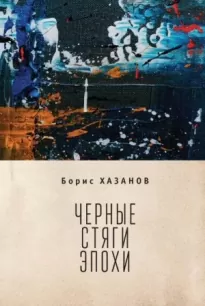
- Автор: Геннадий Файбусович
- Жанр: Историческая проза / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "Черные стяги эпохи"
И всё же война в этом сочинении есть лишь некое quo ante. Осенью Юрий Иванов собирается поступить в университет. Выяснилось, что он всё же не главный герой предстоящего повествования, вернее, не единственный. Есть ли там вообще «главный герой»? Придётся повторить фразу, ставшую банальной: главный герой — время. Но с тем же правом можно сказать: любовь — вот истинный герой рассказа.
Рассказ… я произношу это полузапрещённое слово. Сколько раз нам твердили, и твердили мы сами, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция реальности. Мы живём в послероманную эпоху. И, однако, я возвращаюсь к рассказыванию историй; у меня было чувство, что иначе мне не справиться с задачей.
Рассказ движется сюжетностью (или порождён ею), а сюжет, по Лотману, есть «революционный элемент» по отношению к картине мира. Рассказ в моём понимании подразумевает бедность фабулы, возмещённую богатством сюжета, переплетением мотивов, этих несущих конструкций повествования.
Другое дело — отказ от той непосредственности, которую Эрих Ауэрбах («Мимесис») считал отличительной чертой русской литературы, — непосредственности, порождающей особую запретительную поэтику: никаких комментариев «от автора», покажите нам людей и обстоятельства, а не рассуждайте о них; философствовать — не дело художника.
Я понимаю, что рефлексия повествователя, замечания о войне, о времени, о неумении молодых людей найти себя и проч., как и сугубо литературный, старомодно-иронический стиль этих размышлений, — всё это подвергает испытанию терпение читателя. И всё же мне кажется, что метаповествование как pendant к рассказу в собственном смысле, введение дополнительных точек зрения, присутствие рефлектирующей инстанции внутри самого рассказа в наше время так же естественны, как описания природы в романах XIX века. Фразу Камю «Хочешь быть философом, пиши романы» нужно перевернуть: «Хочешь писать роман — будь философом». Мне хотелось подвести некоторый итог; всякий роман есть итог; я вернулся к юности, самому важному (после детства) времени жизни, с тем чтобы в эпилоге приземлиться вместе с рассказчиком в машине времени на Шереметьевском аэродроме — в сегодняшней Москве. Подвести итог, что это значит? В XIX веке говорили об отчуждении человека-производителя от производства. Болезнью только что минувшего века я назвал бы отчуждение человека от Истории. Историческое сознание износилось. Оно перестало быть путеводной звездой. Идея великой цели скомпрометировала себя, надломилась иудейская стрела, указующая вперёд, к Царству Божию на земле. Стала очевидной абсолютная несовместимость Истории, Политики, Нации, государственных приоритетов, национальных амбиций, всех этих зловещих фантомов, обесценивших личность, обессмысливших культуру и мораль, — с заботами и надеждами человека, с реальной жизнью людей, над которой демоны обрели неограниченную власть.
С исторической точки зрения жизнь людей стала чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и является подлинной жизнью. Жить в Истории невыносимо, вне Истории — невозможно.
Но в романе констатация несовместимости двух времён, человеческого и надчеловеческого, меня больше не удовлетворяла. Я по-прежнему представлял себе Историю как нечто бесчеловечное, абсолютно лишённое того, что некогда называли историческим разумом. Требовалось, однако, соединить несоединимое — увидеть, проследить, каким образом человек реагирует на всеобъемлющее насилие. Материалом для этого представлялось мне время юности.
В те времена у нас устраивались балы. (О них бегло говорится во второй главе.) Внизу и на втором этаже, куда вела парадная лестница, вдоль колонн и балясин знаменитой балюстрады аудиторного корпуса на Моховой, под гром духовых оркестров, топтались, качались, крутились пары, и автор был усердным посетителем этих празднеств. Если в качестве исходного образца для Юры Иванова, — правда, только исходного, — передо мной сквозь дымку воспоминаний маячил настоящий Ю.И. (никогда на эти балы не ходивший), то второй персонаж, Марик Пожарский, восходит к нескольким прототипам; один из них — мой закадычный друг студенческих лет, арестованный, как и я, на последнем курсе, но получивший срок поменьше, а впоследствии ставший известным поэтом-переводчиком. Его оригинальные стихи приписаны Марику Пожарскому. И, наконец, третье лицо треугольника: девушка 18 лет, чем-то напоминающая одну реально существовавшую студентку. В главе «Танец» она учит инвалида фигурам танго.
И раз уж зашла речь о прототипах, можно добавить, что профессор Данцигер имеет некоторые черты сходства с покойным Сергеем Ивановичем Радцигом, заведующим кафедрой классической филологии. Я сделал Данцигера германистом, молодых людей — студентами западного, или романо-германского, отделения. Биография и отчасти внешность его брата могут напомнить о Фёдоре Августовиче Степуне, русском философе, предки которого были выходцами из Восточной Пруссии. Правда, Степун, изгнанный из Советской России в 1922 г., никогда не возвращался.
История, похожая на разоблачение Игоря Былинкина, произошла с известным всему курсу активистом-общественником Б.: он тоже считался бывшим партизаном. Кажется, ему разрешили после крушения заочно окончить университет, он стал доктором наук; его уже нет в живых. Но любовная история в эвакуации, прибытие в университет родственников соблазнённой девицы и т. д., а также возвращение Былинкина в Агрыз придуманы.
Дела давно минувших дней, прошлогодний снег… Воспоминания — сырьё, которое должно быть переработано. Отсюда следует, что если автор обращается к тому, что «было», получается не совсем то, что было. Живое, интимное чувство ушедшей жизни, то, что всегда и везде питало литературу, может ли оно быть всеобщим достоянием? Химический процесс, торжественно именуемый творчеством, денатурирует действительность; самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Реальными, однако, остались «декорации». Два старых здания, разделённых бывшей улицей Герцена, они и для меня когда-то были родным домом.
Гораздо больше, чем «нормальные» члены общества, романиста занимают маргиналы, те, кого не расплющил штамповочный пресс. Существенно важный мотив романа связан всё с тем же насилием Истории, точнее, с репрессивным обществом, куда вступили эти юнцы. То, что составляет реальное содержание их жизни, любовь, этот островок индивидуальной свободы, на котором юноша и девушка всецело располагают собой, чувствуют себя самими собой, — внутреннее изгнание, куда, сами того не сознавая, они уходят, чтобы отстоять себя, — оказывается западнёй, которую готовит им общество, изначально враждебное и карающее всякую независимость.
Каждый из них заново и на свой лад постигает роковую для подростка, переступающего порог юности, истину связи любви с сексом.
Между тем есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе: секс есть вторая крамола. В этом обществе нравственность носит полицейские черты. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, — так воспитываются стыд и скованность, становятся нормой поведения трусость и ханжество, какого не знало буржуазное общество. Идиотический этикет, казалось бы, дикий и невозможный на фоне бедности и плебейства. Пуританские нравы, оборотная сторона подпольного разврата. Какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода. Носителями этой свободы-несвободы становятся персонажи: это роман о невозможности любви.
Я пытался передать то особое чувство, знакомое каждому молодому человеку, каждой девушке: почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное, нечто постыдное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует — совершенно так же, как не существует тайной полиции, доносительства, всеобщего страха и всенародной нищеты. В этой ситуации находится Марик Пожарский, робкий бунтарь. Скованный и немой, что он придумывает? То, что придумывали влюблённые всех веков: объясниться заочно — написать письмо. Бумаге можно доверить то, что не может быть сказано вслух. В письме можно стать отважным, дерзким, письмо освобождает из плена трусости, неуверенности, стыда, другими словами, отчуждает пишущего от его собственной натуры. И в то же время артикулирует его подлинные, его тайные надежды, мысли и чувства.
Но так как письмо есть не что иное как высказанное вожделение, оно (как говорит Ролан Барт) имплицитно обязывает к ответу. К какому ответу? Не к письменному, разумеется. Она должна будет дать понять, что письмо получено, сигнал принят. Как она это сделает? Прямо (навряд ли) или намёком? Проявит ли благосклонность? Может быть, посмеётся. Как бы то ни было, любовное письмо — это целое приключение. Увы, Марик не решается и на этот шаг. Вместе с тем он совершает важное открытие. Это открытие нового измерения мира — эротизма. Первичная физиологическая сексуальность преображается в безбрежную эротику. Мир оказывается для Марика, начинающего поэта, несравненно богаче, нежели для какого-нибудь Владислава, который (по-видимому) уже усвоил навыки секса, технику обладания женщиной как сексуальной партнёршей. Марик погружён в неутолённое желание — это ситуация художника. Его «объект» всегда прикрыт, прикровенен (он не может представить себе Иру раздетой), это «неразгаданная тайна» Тютчева. Но Марик сам, не сознавая этого, противится разгадке: она уничтожила бы любовь, низвела бы её на уровень секса. Безвыходность усугубляется ложным сообщением о том, что Ира принадлежала другому, — разочарование, сопоставимое с разочарованием в коммунизме и, далее, с метафизическим разочарованием, «болезнью расколотого зеркала», — и заканчивается бунтом, поступком, который Ира (и, очевидно, все окружающие) воспринимают как бессмысленный. На самом деле это не что иное, как мальчишеский вызов абсурдному миру.
Юношеская любовь не просто безвыходна; она движется к катастрофе. Рано или поздно эротическое поле должно было вступить в противоречие с другим электромагнитным полем — мистическим вездесущим присутствием Вождя. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической, поисками которой занимался Эйнштейн), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единого поля не было. Психологическое «поле» Вождя исключало присутствие каких-либо конкурирующих воздействий. Поле, которое вот-вот прорвётся искровым разрядом в душном зале кинотеатра на Арбатской площади, где идёт демонстрация эпохального фильма «Клятва», истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, — этот психологический климат, это поле не было метафорой, заимствованной из области, о которой автор в общем-то имеет смутное представление. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать его реальность. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами. Вот отчего и эта тема вплелась в роман.