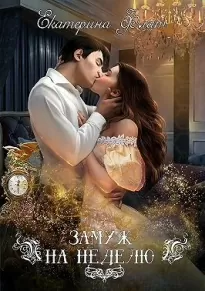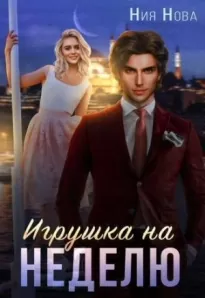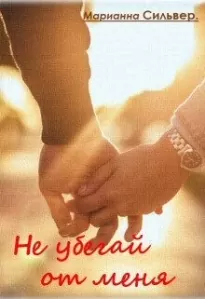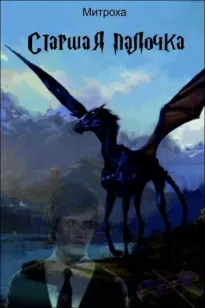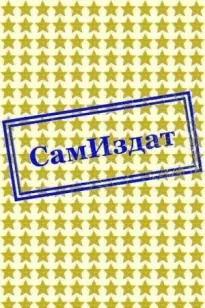Черные стяги эпохи
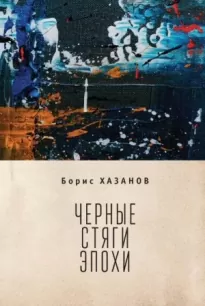
- Автор: Геннадий Файбусович
- Жанр: Историческая проза / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "Черные стяги эпохи"
Послесловие автора
Если правда, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное о нём — на восковых табличках, на папирусе, на бумаге, — то история человеческой жизни начинается после того, как некто вознамерился о ней рассказать. Кладбища — это библиотеки ненаписанных романов.
Среди многочисленных функций романа мы должны выделить одну, может быть, главную: роман реабилитирует человека. Роман убеждает — в век неслыханного умаления человека, — что нет ничего более ценного, чем личность, и ничего более интересного. То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности.
Сочинитель сидит в номере гостиницы перед молочно-светящимся экраном, отводит взгляд — за окном узкий, глубокий колодец двора. В коридоре тишина. Кажется, ты один на всём этаже, во всём доме. Два чувства: первое — обыкновенное, привычное ощущение тупика; как будто готовишься, поплевав на ладони, долбить ломом каменную стену. Второе… о нём говорить труднее. Россия, которая настигает везде, как наваждение. Итак, о чём, собственно, мы собирались поведать? Иногда кажется небесполезной попытка восстановить историю книги. (Такие вещи уже делались). Два обстоятельства, или два образа, послужили первым толчком. Во-первых, это был парень, бывший фронтовик, которого я увидел на первом курсе, через несколько дней после начала занятий, в первую послевоенную осень, в прекрасном сентябре. Он был рыжеволос, строен, тщательно, даже шикарно для того времени одет в новый, тёмный в полоску костюм. Он был в галстуке и в пенсне, — кто тогда носил пенсне? Трость с набалдашником в правой руке. Ходил прихрамывая, по-видимому, на протезе.
Вероятно, он был не намного старше меня — мне исполнилось семнадцать, ему могло быть 22, от силы 24 года, но между нами было огромное расстояние, была война, мы принадлежали к разным поколениям. Только теперь, когда будущее, манившее нас, давно стало прошедшим, я могу понять, какого душевного мужества, какой выдержки стоила ему поза денди, цедившего слова, менторски-снисходительный тон и эти стёклышки, сквозь которые он взирал на нас, юнцов, — меня и моего товарища. Почему-то он удостаивал нас вниманием, издалека спешил навстречу, припадая на ногу; мы тяготились его дружбой.
Этого человека (надеюсь, он ещё жив) я позднее уже никогда не видел, летучее знакомство растворилось в обилии новых впечатлений и дружб, вдобавок мы учились на разных отделениях. Я придумал ему военно-морское прошлое — и это была история, которая стала вторым отправным пунктом.
Автор узнал о не й из случайно увиденного немецкого документального фильма, в котором участвовали бывшие моряки, члены экипажа советской подводной лодки «С-13». Командирлодки, тридцатидвухлетний капитан 3 ранга Александр Иванович Маринеско, отец которого был румыном, после окончания Одесского высшего мореходного училища стал штурманом и капитаном торгового флота, а затем военным моряком — подводником. Он был хорошо известен на флоте, прославился как герой, был любимцем женщин, много пил, дебоширил, не ладил с начальством. После войны окончательно впал в немилость и умер в нищете и безвестности. История, о которой идёт речь, произошла вблизи Данцигской бухты, в ста километрах от побережья Померании: лодка «С-13», получившая приказ занять боевую позицию в южной части Балтийского моря, где ожидалось появление немецких транспортов, выследила и потопила большой шестипалубный пассажирский корабль «Вильгельм Гу-стлофф» с беженцами из отрезанной Восточной Пруссии.
Описывать войну, никогда не быв на войне (автора должны были призвать осенью 45-го, если бы война продолжалась), — дело по меньшей мере рискованное. В своё оправдание могу сказать, что я ограничился поначалу одни мабзацем. Юрий перекочевал в роман, сохранив своё имя и внешность. Он стал у меня моряком подлодки «С 13», вахтенным офицером, который первым увидел огни вражеского корабля и был выловлен из ледяной воды после того, как лодку настигли глубинные бомбы немецкого эскадренного миноносца «Лев».
Ради этого пролога — и воспоминаний, которые преследуют Иванова, — мне пришлось проштудировать довольно обширную литературу. Я снабдился справочниками и атласами военно-морского флота разных стран в годы Второй мировой войны, собрал сведения о моторном лайнере «Густлофф», прочёл воспоминания рулевого-сигнальщика Г.Зеленцова, участника подводной атаки (умершего через полвека, в 1998 г.), разглядывал карты и фотографии. Мне помог также документальный роман Л.-Г. Бухгейма «Das Boot» («Лодка»), по которому сделан известный фильм. Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как моё сочинение было готово, — «Im Krebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф» от схождения с гамбургских стапелей в 1936 г. до гибели в Балтийском море. (Русский перевод, под искажающим смысл оригинала названием «Траектория краба», появился в журнале «Иностранная литература».)
Мне нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную январскую ночь 1945 года.
Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где теснились полузамёрзшие пассажиры (в день катастрофы температура воздуха была минус 18 градусов, ветер до семи баллов), радио транслировало речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу германского народа».
Посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из порта. С маршрутом не все ясно, по одним сведениям, «Густлофф» направлялся в Сви-немюнде, по другим — пунктами назначения были Киль или Фленсбург. В открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан корабля Петерсен (он был спасён) распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. С этой стороны «Густлофф» и был замечен. По некоторым сообщениям, капитан Маринеско, прежде чем атаковать, совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны; в воспоминаниях Зеленцова (и в моём романе) об этом не говорится. Последний из трёх выпущенных снарядов разрушил машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.
Я почувствовал, что война с Германией вновь преследует меня, хотя кажется — чтó мне в этом прошлом, которое пронеслось стороной, совпало со временем отрочества, погружённого в собственный сон? Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в той самой стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинулась всей громадой трёхмиллионного войска на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, видеть войну не совсем так, как её видят в России. Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который вступает на пепелище, успевшее зарасти травой. Я всегда думал, что никто так плохо не разбирается в эпохе, как тот, кто в ней живёт; мы, конечно, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. Как бы то ни было, оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к сочинению своего романа, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан; стереотип этот, по-видимому, незыблем по сей день.
Нелишне вспомнить о том, что, не будь нашествие остановлено, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось победить, — а ведь дважды, в ноябре сорок первого и в августе сорок второго, всё висело на волоске. Тот, кто пережил 9 мая 1945 года в Москве, кто помнит эти счастливые толпы, танцы на улицах, объятья, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, — будет, наверное, возмущён или по меньшей мере удивлён, если я осмелюсь заявить, что победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения, самого страшного, может быть, за всю одиннадцативековую историю нашей страны. Разгромлены оба противника; проиграли оба. Таков был слабо звучащий лейтмотив романа или, лучше сказать, его подспудная тема.
Я понял, что мой герой, мальчик-офицер, вернувшийся инвалидом, преследуемый, как кошмаром, воспоминанием о гибели женщин, детей, стариков и калек в бушующем снежном море, гибели, к которой он как-никак приложил руку, хотя никто не посмел бы его упрекнуть, — в конце концов он и сам едва не погиб, — что этот изобретённый моей фантазией Юра Ивáнов, так и не сумевший справиться с новой, мирной жизнью, есть в некотором смысле персонаж исторический. Мне стало ясно, что человек, которого война преследует не только буквально (сны, кошмары, напоминания, остеомиелит культи, наконец, визит спасшейся немки; сюда же — возможно — импотенция), но и в каком-то более общем смысле — война как отсроченная смерть, от которой он случайно ускользнул и которая в конце концов его настигает, — что человек этот олицетворяет катастрофу, которую называли победой.
С этого момента стало понятно, о чём мне нужно писать: о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего.
Обозначилась и точка зрения повествовательной прозы, в данном случае — точка зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Я использовал для названия моего романа строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, настигнутость прошлым перекликались с сюжетом, который мало-помалу стал проясняться) и у него же заимствовал эпиграф — короткое стихотворение из сборника «Atemwende» («Перемена дыхания»).
Прозаический перевод, сделанный мною, конечно, не мог передать всю многозначность и прелесть маленького шедевра.
«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни».
Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.
«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.