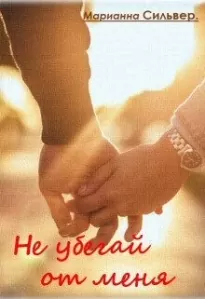Черные стяги эпохи

- Автор: Геннадий Файбусович
- Жанр: Историческая проза / Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2019
Читать книгу "Черные стяги эпохи"
Эпикриз. Субмарина уходит в пучину морей.
Послесловие рассказчика
Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell’etterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente[57].
Inf., III, 1–3
Некогда я бродил по улицам, где из десяти встречных девять были старше меня. Сейчас из десяти едва нашелся бы один, достигший моего возраста. Приняв предложение литературного журнала участвовать в конференции «Искусство в поисках новой идеологии», я уступил соблазну, которому успешно сопротивлялся добрых десять лет — с тех пор, как открылись границы. Начать с того, что меня удерживал самый обыкновенный страх. Совершенно согласен с каждым, кто назовет это суеверием. Я знал, что моё дело с грифом Хранить вечно ждёт своего часа в катакомбах гигантского архивохранилища, потому что дела эти не только хранятся, но и никогда не закрываются, и живо представлял себе, как где-нибудь в самом оживлённом месте, на улице Горького, которая снова стала Тверской, автомобиль с тёмными стёклами остановится у тротуара, вежливый голос окликнет меня, цепкие руки втащат в машину, и через десять минут мы окажемся там, где мне пришлось побывать когда-то. Я даже допускаю, что за истекшие двадцать лет — с тех пор, как я бежал из России, — пухлая папка стала ещё толще. Такие коллекции обладают способностью к самостоятельному росту и обогащению. И никто не знает, какими новыми инструкциями оснастилась канцелярия, пережившая всё и всех. Словом, говорил я себе, лучше туда не соваться. И всё же приехал.
Я стоял в зале с низким потолком, с диковинными рекламами на стенах, в одной из трёх или четырёх очередей, правильней будет сказать — в одной из трёх толп. Люди перебегали из одной толпы в другую, экономя время с ловкостью и чутьем завсегдатаев очередей, так что в конце концов я оказался последним. Люди переговаривались на языке, в котором мне было внятно каждое слово и где я не понимал ни слова. То было чувство нереальности, которая вот-вот должна была стать зловещей и необратимой действительностью; состояние, о котором говорит тюрингский романтик: если во сне мы видим сон, это значит, что ещё немного и мы проснёмся.
То было переживание языка — давно умолкнувшего, ставшего сакральным, подобно мёртвому языку священных книг, но который заговорил вокруг десятками уст и оказался жаргоном черни. Замечу, что таким же или почти таким, разве только с обратным знаком, было переживание живого английского языка, много лет тому назад, когда я приземлился в Соединённых Штатах. Вот так же я понимал его, ничего не понимая. Поистине, чтобы ощутить нечто подобное, надо было прожить безвылазно жизнь в стране, похожей на дом с закрытыми ставнями, за глухим забором.
Люди о чём-то совещались, смеялись, бранились, не стесняясь соседей, мешая обыкновенные слова с грязной руганью, которая, однако, выговаривалась, как обычные слова: матерная брань, лишённая эмоций — всё равно что кофе без кофеина. Затеплились матовые кубы над кабинами паспортного контроля, толпа заколыхалась. Каждый миг в самолёте над океаном поглощал огромные расстояния; здесь уходило десять минут на то, чтобы переместить чемодан на полметра, шаг за шагом, навстречу решающему мгновению, когда женщина-офицер в форменном галстуке, за стеклом кабины, поднесет к уху телефонную трубку и, глядя в мой паспорт, вполголоса произнесёт несколько слов. Появятся двое и попросят «пройти».
Вместо этого, пристально поглядев на меня, поразмыслив, она хлопнула штемпелем; несколько времени спустя путешественник вышел в город, над которым сеялся дождь, и, усевшись в такси, назвал адрес по-русски, чего делать не следовало. Мне казалось, если я дам понять, что я здешний, меня не станут беззастенчиво обирать, как принято поступать с иностранцами; получилось хуже: меня, похоже, приняли за одного из этих нуворишей, New Russians[58]. Сомнительное сословие, вымахнувшее из-под земли, как красавцы-мухоморы после тёплого дождя. Город летел навстречу, и я все еще не мог избавиться от чувства, которое должен испытывать человек, стоящий на разводном мосту: одна нога здесь, другая там, а внизу — вода. Но хватит об этом. Я прослушал положенное число докладов на нелепую тему, конференция была для меня, как легко догадаться, не более чем предлогом. Должен, однако, добавить к сказанному выше: мое намерение совершить паломничество на бывшую родину не было свободно от некоторой задней мысли. Каждый писатель ощущает себя более или менее лазутчиком. Если уж начистоту — ради этого я и отправился в путешествие. Я собирался написать роман.
Здесь, возможно, не будет лишним вкратце сказать о моих литературных амбициях. Я сознательно употребляю слово «амбиции» вместо того, чтобы говорить о достижениях. Никакими особыми достижениями мы, увы, похвастаться не можем. Два десятка повестей и рассказов из времён, которые нынешней молодёжи кажутся эпохой Среднего Царства, несколько статей, назовём их для пущей важности модным словом «эссе», — что ещё удалось опубликовать там, где, как говорили в старину, обретается «наш читатель»? В том-то и дело, что читателей раз-два и обчёлся. Можно указать причины, по которым мои творения не пользуются и, очевидно, не будут пользоваться успехом. Во-первых, они делят общую судьбу литературы. (Я имею в виду литературу, которая заслуживает этого названия). Публика, готовая тратить время и деньги на чтение серьёзных книг (а кто из нас согласится признать свои писания несерьёзными?), тает, как весенний снег. Во-вторых, — это уже мое личное дело, — я ненавижу так называемую актуальность. Оставим её газетчикам.
Сформулируем так: известность NN — лучшая, какую можно вообразить. Известность в весьма тесном кругу не щедрых на похвалы ценителей. В тот счастливый для него день, когда он покинет мир, журналисты, может быть, спохватятся, почуяв поживу. Но будет уже поздно. Невозможно будет брать у него интервью, чтобы наскоро тиснуть в воскресном приложении, невозможно будет строчить чепуху в газетах, чтобы завтра забыть его имя, теперь уже навсегда, невозможно будет перемолоть его на жерновах прессы и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро.
Итак, я воспользовался возможностью, сбежав с конференции, побродить по городу, который некогда — отчего не сказать об этом? — так любил. Который не променял бы — так мне казалось — ни на какой другой город в мире. Не берусь судить, хороши или плохи новейшие архитектурные преобразования, скажу только, что мне жаль пустоты и простора Манежной площади, расстилавшейся перед глазами, когда, бывало, выходишь из университетских ворот. Говорю, разумеется, о старом университете в зданиях по обе стороны от бывшей — теперь уже бывшей — улицы Герцена. Циклопический дворец на Ленинских горах, воздвигнутый заключёнными, моему сердцу ничего не говорит.
Я поднялся на филологический факультет, но никакого факультета не оказалось. В коридорах, в холле, где когда-то висела — может быть, я последний, кто её помнит! — стенная газета с фотографией славного Былинкина (и куда ты ни пойдёшь…), расположился новый хозяин, какая-то фирма, и уже нельзя было войти просто так: на площадке перед входом стоял охранник из отряда приматов. Он спросил, кто я такой. Я не мог ничего ответить. Откуда я знаю, кто я такой?
Не было больше и трамвая, который ходил в былые времена от Никитских ворот, звенел, сыпал искрами, поворачивал направо, шёл мимо университетской ограды и Горьковской библиотеки, мимо приёмной дедушки Калинина, — спросите сейчас кого-нибудь: кто такой был этот дедушка? И дальше, мимо Библиотеки Ленина, устья улицы Фрунзе и по Большому Каменному мосту в Замоскворечье. Липы вдоль тротуара перед Новым зданием исчезли, зато разрослись деревья за оградой и скрывают нового Ломоносова. Теперь отец русской науки сидит. Прежде стоял, положив руку на глобус, другой рукой сжимая упёртую в бедро подзорную трубу, которую издали можно было принять за детородный член. Бывший студенческий клуб, с которым так много связано, более не существует, над полукруглым фронтоном сияет восьмиконечный крест, ниже надпись золотом: СвЂтЪ ХристовЪ просвЂщаетЪ всЂхЪ. Что она означает?
Я позвонил старой даме и договорился о встрече.
Перехожу к главной теме моего рассказа. Ветхий дом на Арбате, визг и скрежет канатов, потащивших наверх шаткую кабину лифта. Увядшая женщина с крашеными волосами, в туго подпоясанном дождевике и всё ещё модных здесь сапогах с копытообразными каблуками отворила дверь гостю, чтобы тотчас попрощаться; это была дочь. Неся букет, как посол — верительные грамоты, я прошествовал по коридору коммунальной квартиры и вступил в комнату, разделённую пополам занавесом на деревянных кольцах.
Голос из-за портьеры: «Одну секундочку!»
«Простите, что заставила вас ждать, — сказала хозяйка, выходя, хотя ждать пришлось недолго. — О! — воскликнула она кислым голосом, — какие чудные розы!..» Старость начинается не тогда, когда седеют волосы и опускаются углы рта, тускнеет блеск глаз и угасает вожделение; старость начинается, когда постигаешь, и не умом, а всем телом, что ты не бессмертен. Полагаю, нет необходимости описывать внешность той, что предстала передо мною в это позднее утро, в предпоследний год страшного дотлевающего столетия; да я и не сумел бы нарисовать её портрет, хоть и числюсь писателем, — разве только по свежим следам, воротившись в гостиницу; но я и этого не сделал, лишь наскоро, стараясь не упустить главное, занёс на бумагу наш разговор. Мы уселись друг против друга, и она спросила, надолго ли я приехал. Что за конференция?
Я объяснил, что обсуждается новая идеология.
«Новая?»
«Ну да. Взамен старой».
«И какая же это новая идеология?»
«Идеология разбитого корыта». Таковы были первые, совершенно ненужные реплики, которыми мы обменялись.
Я не могу её описать хотя бы потому, что и в первый, и в последующие два визита (срок моей визы истекал, я должен был торопиться), чем дальше, тем всё настойчивей, за чертами изжёванной жизнью женщины проступал образ той, прежней, которую знал я когда-то. Как если бы он возник в темном трюмо в углу комнаты и постепенно светлел, и рос, и, наконец, выступил из рамы; как будто привидение неслышно вошло и мягко отстранило реальную Иру. Ибо память — кто это сказал? — память ревнива и не терпит соперничества. Звук голоса, тень улыбки, манера встряхивать головой, даже то, что она время от времени поглядывала в зеркало в углу, чтобы поправить воротничок или седую прядь, — во всем этом было так много тогдашнего, несомненного, что постепенно меня перестало смущать то, что ошеломило в первую минуту, и расщелина времени уже не казалась такой бездонной.
Мы и не старались в нее заглядывать. Не было никакого желания рассказывать о себе, да и она не проявляла интереса к моей жизни; мы могли говорить только о том, что было общим для нас, было нашей жизнью, остальное не существовало; но, хотя она знала о том, чем я занимаюсь, — лучше сказать, пробавляюсь, — и, может быть, даже читала кое-что, ей, по-видимому, не приходило в голову, что гость явился из небытия с небескорыстной целью, и уж тем более она не могла догадаться, что предназначена стать героиней моего будущего шедевра.