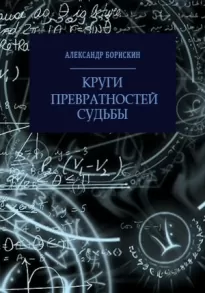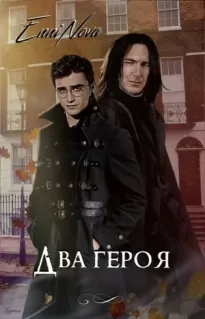Поэтика Достоевского
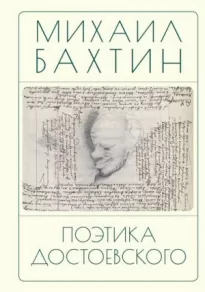
- Автор: МИХАИЛ БАХТИН
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Поэтика Достоевского"
Примечания к книге «Проблемы поэтики Достоевского»
1 По такому принципу в значительной степени построен анализ в книге А. Л. Волынского «Ф. М. Достоевский» (СПб., 1909).
2 Бахтин, видимо, в основном имеет в виду здесь концепции творчества Достоевского, развитые русскими религиозными философами (обзор их см. в нашей вступительной статье к данному тому)
3 Представление о романе Достоевского как «событии» в творчестве Бахтина начала 20-х годов предваряется концепцией «эстетического объекта» как «события» взаимоотношения автора и героя (АГ, СМФ). В конечном же счете оно восходит к бахтинскойонтологии – теории «бытия-события», разработанной в ФП.
4 В связи с категорией «слово» см. прим. 39 СМФ (I том данного издания).
5 Постановка Бахтиным проблемы поэтики Достоевского изначально происходит, как видно из данного места, в русле проблематики АГ – в терминах «взаимоотношений» автора и героя. Категория «другости», «вненаходимости», «избытка видения» и «завершения» в бахтинской эстетике «диалога» философски «снимаются»: роман Достоевского – не только особая эстетическая форма, но и событие этического порядка.
6 До Бахтина «субъективность» героев Достоевского была глубоко осмыслена Н. Бердяевым, острее других мыслителей ощущавшим ущербность «объективирующего» подхода к человеку. Бердяев подметил, что у Достоевского «нет объективного изображения человеческой и природной жизни» (Бердяев Н. Откровение о человеке в творчестве Достоевского (1918) // Бердяев Н. А. О русских классиках. М., 1993. С. 56); правда, в отличие от Бахтина, он считал, что в героях Достоевского выразилось субъектное начало самого писателя: «Все герои Достоевского – он сам, различные стороны его собственного духа» (там же).
7 В русской философской критике под данную, в общем верную характеристику Бахтина не подходит, кажется, одна работа. Мы имеем в виду статью Бердяева «Ставрогин» (1914), в которой главный герой «Бесов» показан – вполне в духе Бахтина – как самостоятельная, не зависящая от автора, живая личность. Так, Бердяев утверждает, что Достоевский «романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им» (Бердяев Н. Ставрогин // Бердяев Н. А. О русских классиках. С. 46) и что «тайну индивидуальности Ставрогина можно разгадать лишь любовью, как и всякую тайну индивидуальности» (там же. С. 47). Более того, Бердяев рассуждает о судьбе Ставрогина «после "Бесов"» – за пределами романа. В но вой религиозной эпохе, благодаря «нашей любви» к Ставрогину и «молитвам» за него Достоевского, Ставрогин, по словам Бердяева, «воскреснет» в полном блеске своих нераскрывшихся дарований. Нельзя не вспомнить здесь про бахтинскую концепцию эстетической любви автора к герою, – любви, «спасающей» героя, дающей ему жизнь в эстетическом инобытии (АГ); то, что у Бердяева представляется метафизическим воззрением, у Бахтина переведено в план эстетики и поэтики.
8 См.: Розанов В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского (1891) // Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989; Волынский А. Л. Ф. М. Достоевский. СПб., 1909; Мережковский Д. С. Религия Л. Толстого и Достоевского. СПб., 1902; Шестов Л. Достоевский и Нитше. СПб., 1903. См. также современное издание: О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990, где наряду со статьями Л. Шестова, В. Розанова, Андрея Белого содержатся работы о Достоевском второстепенных русских мыслителей.
9 В «поэтике Достоевского» Бахтин находит осуществление того самого «участного мышления» – мышления личности, являющегося элементом «бытия-события» – о котором говорилось в ФП. И усмотрение исследователями – религиозными философами – борьбы в романах Достоевского абстрактных философем отвергается Бахтиным на тех же основаниях, на которых в ФП ведется полемика с «теоретизированием», – отвергается во имя личностной «правды». На самом деле, как правило, религиозные мыслители прекрасно чувствовали «жизненный» характер «идей» у Достоевского. «Идеи Достоевского – не абстрактные, а конкретные идеи. У него идеи живут. Метафизика Достоевского – не абстрактная, а конкретная метафизика», – сказано у Бердяева (Миросозерцание Достоевского (1923) // Бердяев Н. А. О русских классиках. С. 219). И русский экзистенциалист имеет в виду буквально то же, что и Бахтин, когда утверждает: «Идеи совершенно имманентны его художеству, он художественно раскрывает жизнь идей» (там же. С. 120). Как это часто бывало, полемика Бахтина направлена здесь против некоей обобщенной точки зрения (ср. полемику с формалистами в СМФ).
10 Подобно другим русским религиозным мыслителям, Вяч. Иванов дает интерпретацию романа Достоевского в соответствии со своим мировоззрением – неоязычеством «дионисического» типа. По утверждению Иванова, исступленная «дионисическая» вера Достоевского реализовалась и в его художественном творчестве: требование Бога, «Христа, осуществляющего искупительную победу над законом разделения и проклятием одиночества», Достоевский осуществлял благодаря художественному проникновению в чужое «я» – «я» героя. Согласно Иванову, «проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект. (…) Открывается возможность этого сдвига только во внутреннем опыте, а именно в опыте истинной любви к человеку и к живому Богу (…). Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия: "ты еси". При условии этой полноты утверждения чужого бытия, полноты, как бы исчерпывающей все содержание моего собственного бытия, чужое бытие перестает быть для меня чужим, "ты" – значит не "ты познаешься мною, как сущий", а "твое бытие переживается мною, как мое", или: "твоим бытием я познаю себя сущим"» (Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916. С. 34).
11 В отличие от Аскольдова, сам Бахтин различает принципы изображения человека не в «психологической», но в «смысловой» плоскости (ср. главу АГ «Смысловое целое героя»), следуя при этом «антипсихологической» установке Э. Гуссерля.
12 «Кругозор» – категория АГ, соответствующая пространствен но-временному, а также ценностному видению мира с позиции «я-для-себя».
13 В связи с влиянием релятивистических представлений А. Эйнштейна на философию Бахтина см. нашу статью: «Мировоззрение М. Бахтина и теория относительности» (сб. Хронотоп. Махачкала, 1990. С. 5–20 (текст статьи вошел в монографию: Бонецкая Н. Бахтин глазами метафизика. М.; СПб., 2016).
14Христиансен Б. Философия искусства. СПб., 1911.
15 В религиозно-философской критике акцент делался на том, что герои Достоевского не суть головные, умозрительные создания автора, но Достоевский сам экзистенциально пережил их идейную драму. «Все герои Достоевского – он сам, одна из сторон его бесконечно богатого и бесконечно сложного духа, и он всегда влагает в уста своих героев свои собственные гениальные мысли», – утверждал Бердяев («Откровение о человеке в творчестве Достоевского». Указ. изд. С. 64), прекрасно понимавший при этом, что «противоречия» Достоевского имеют «объективную» природу – это противоречия «души России» (там же. С. 74). В устах Бердяева «отождествление» героев Достоевского с внутренним миром самого писателя означает в первую очередь субъектный характер изображения им человека (ср. прим. 6), показ Достоевским героя в «я-аспекте». Ср. также: «Нет сомнений, что всеми "бесами", о которых рассуждает Достоевский в своем романе, был одержим он сам, и все его герои, в известном смысле, суть тоже он сам, во всей антиномичности его духа. И ту духовную борьбу, которая раздирает Россию, он изживал в своем всеобъемлющем духе» (Булгаков С. Н. Русская трагедия // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 томах. Т. 2. Избранные статьи. М., 1993. С. 525). Бахтин, настаивающий на социологическом пафосе творчества Достоевского, отдает, казалось бы, дань своему времени (крен в сторону «социологии», кстати, сильнее в редакции 1929 года). Это, разумеется, так, – но одновременно мыслитель ориентирован и на собственную заветную философскую цель: «полифонический» социум для Бахтина – не что иное, как определенная трансформация «мира ответственного поступка» ФП, новая – уже «диалогическая» – модель «бытия-события» бахтинской «первой философии».
16 О «раздвоенности» и «противоречивости» Достоевского писали все без исключения его критики – как религиозные философы, так и исследователи «поэтики», от Мережковского (ср.: «Никто так глубоко не исследовал религиозного раздвоения русского духа (…), как Достоевский». – Мережковский Д. С. Религия Л. Толстого и Достоевского. Указ. изд. С. 306) до Л. Гроссмана. Смысл, влагаемый ими в «раздвоение», при этом глубоко разнился: так, Мережков ский и Бердяев доходили до рассуждений о гностическом двоении в самом Божестве, гениально вскрытом, по их мнению, Достоевским («Огненная (…) полярность идет от самой глубины бытия (…). Если бы Достоевский раскрыл свое учение о Боге, то он должен был бы признать двойственность в самой божественной природе, яростное и темное начало в самой глубине божественной природы». – Бердяев Н. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. Указ. изд. С. 65) тогда как литературоведы 20-х годов указывали на раздвоение героев в психологическом плане, на парность персонажей Достоевского, на смысл двойничества и т. п. (С. Аскольдов). Эта интуиция у Бахтина оформилась в концепцию тотальной диалогизированности художественного мира и «слова» романов Достоевского. Данное качество Бахтин связывает с особым художественным видением писателя; в религиозной же философии оно охарактеризовано как признак трагической антиномичности его миросозерцания.
17 Весьма частое у Бахтина отрицание «диалектического» момента у Достоевского полемически обращено против религиозно-философской критики (не только против Энгельгардта). Так, «диалектику» видели у Достоевского А. Волынский («Искусство его полно художественной диалектики, в которой обрисовывается отношение между человеком и Богом». – Волынский А. Л. Ф. М. Достоевский. С. 365), В. Розанов, в связи с бунтом Ивана Карамазова против мира замечавший, что «в столь мощном виде, как здесь, диалектика никогда не направлялась против религии» («Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского». С. 100), Бердяев, по мнению которого «диалектика» Ивана или других героев Достоевского – это собственная «диалектика» писателя («Откровение о человеке в творчестве Достоевского». С. 70) и т. д. Стоит отметить, однако, что религиозные философы употребляют слово «диалектика» отнюдь не в гегелевском смысле, который подразумевает Бахтин. Они связывают с «диалектикой» древний, платоновский смысл, видят в ней искусство вести спор, беседу, – искусство обосновывать свою точку зрения. И так понятая «диалектика» на самом деле недалека от «диалога». «Диалог» у Бахтина, впрочем, отнюдь не сводим к «разговору»: как и у западных диалогистов, «диалог» у Бахтина имеет статус самого нравственного бытия.
18 Данная статья Б. Энгельгардта близка исследованию Бахтина в следующем отношении. Подобно Бахтину, Энгельгардт стремится избежать погружения и духовно-философскую проблематику Достоевского, не желает «заражаться» ею. При этом, однако, он не хочет ограничить себя одним формальным анализом, – и, в сущности, говорит о содержании «идеологического романа», когда утверждает, что мысль Достоевского эволюционирует в направлении «земли», понятой мистически. Энгельгардт критикует религиозных философов за то, что их методология не поднимается над духовным уровнем героев Достоевского. Это ведет к тому, что исследователь «вовлекается в опасную игру порождаемых им идей, переживаний и образов» и остается «в том же религиозно-философском плане, как и действие романов». Между тем, как утверждает Энгельгардт, «для самого Достоевского всё это было преодоленным моментом духовного становления», к чему должен стремиться и критик (Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. П. Л., 1924. С. 71, 76 соотв. Отметим, что в первом издании своей книги о Достоевском Бахтин сочувственно цитирует это место статьи Энгельгардта). Бахтин отказывается заниматься содержанием «идей» на том основании, что они предстают для читателя не жизненно-непосредственно, но в обрамлении формы романа. Поэтому, по Бахтину, изучению в первую очередь подлежит эта форма, – именно она может стать предметом объективного научного анализа.