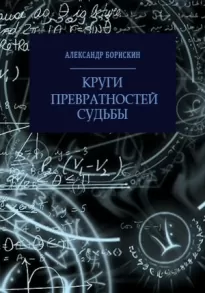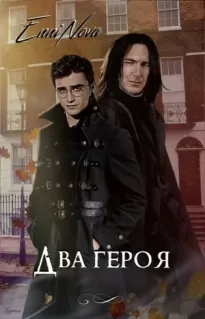Поэтика Достоевского
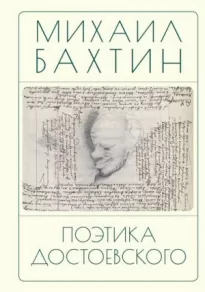
- Автор: МИХАИЛ БАХТИН
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Поэтика Достоевского"
* * *
В романе «Идиот» карнавализация проявляется одновременно и с большой внешней наглядностью, и с огромной внутренней глубиной карнавального мироощущения (отчасти и благодаря непосредственному влиянию «Дон-Кихота» Сервантеса).
В центре романа стоит по-карнавальному амбивалентный образ «идиота», князя Мышкина. Этот человек в особом, высшем смысле не занимает никакого положения в жизни, которое могло бы определить его поведение и ограничить его чистую человечность. С точки зрения обычной жизненной логики все поведение и все переживания князя Мышкина являются неуместными и крайне эксцентричными. Такова, например, его братская любовь к своему сопернику, человеку, покушавшемуся на его жизнь и ставшему убийцей любимой им женщины, причем эта братская любовь к Рогожину достигает своего апогея как раз после убийства Настасьи Филипповны и заполняет собою «последние мгновения сознания» Мышкина (перед его впадением в полный идиотизм). Финальная сцена «Идиота» – последняя встреча Мышкина и Рогожина у трупа Настасьи Филипповны – одна из самых поразительных во всем творчестве Достоевского.
Так же парадоксальна с точки зрения обычной жизненной логики попытка Мышкина сочетать в жизни свою одновременную любовь к Настасье Филипповне и к Аглае. Вне жизненной логики находятся и отношения Мышкина к другим персонажам: к Гане Иволгину, Ипполиту, Бурдовскому, Лебедеву и другим. Можно сказать, что Мышкин не может войти в жизнь до конца, воплотиться до конца, принять ограничивающую человека жизненную определенность. Он как бы остается на касательной к жизненному кругу. У него как бы нет жизненной плоти, которая позволила бы ему занять определенное место в жизни (тем самым вытесняя с этого места других), поэтому-то он и остается на касательной к жизни. Но именно поэтому же он может «проницать» сквозь жизненную плоть других людей в их глубинное «я».
У Мышкина эта изъятость из обычных жизненных отношений, эта постоянная неуместность его личности и его поведения носят целостный, почти наивный характер, он именно «идиот». Героиня романа, Настасья Филипповна, также выпадает из обычной логики жизни и жизненных отношений. Она также поступает всегда и во всем вопреки своему жизненному положению. Но для нее характерен надрыв, у нее нет наивной целостности. Она – «безумная».
И вот вокруг этих двух центральных фигур романа – «идиота» и «безумной» – вся жизнь карнавализуется, превращается в «мир наизнанку»: традиционные сюжетные ситуации в корне изменяют свой смысл, развивается динамическая карнавальная игра резких контрастов, неожиданных смен и перемен; второстепенные персонажи романа приобретают карнавальные обертоны, образуют карнавальные пары.
Карнавально-фантастическая атмосфера проникает весь роман. Но вокруг Мышкина эта атмосфера светлая, почти веселая. Вокруг Настасьи Филипповны – мрачная, инфернальная. Мышкин – в карнавальном раю, Настасья Филипповна – в карнавальном аду, но эти ад и рай в романе пересекаются, многообразно переплетаются, отражаются друг в друге по законам глубинной карнавальной амбивалентности. Все это позволяет Достоевскому повернуть жизнь какой-то другой стороной и к себе и к читателю, подсмотреть и показать в ней какие-то новые, неизведанные глубины и возможности.
Но нас здесь интересуют не эти увиденные Достоевским глубины жизни, а только форма его видения и роль элементов карнавализации в этой форме.
Остановимся еще немного на карнавализующей функции образа князя Мышкина.
Всюду, где появляется князь Мышкин, иерархические барьеры между людьми становятся вдруг проницаемыми и между ними образуется внутренний контакт, рождается карнавальная откровенность. Его личность обладает особою способностью релятивизовать все, что разъединяет людей и придает ложную серьезность жизни.
Действие романа начинается в вагоне третьего класса, где «очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира» – Мыш-кин и Рогожин. Нам уже приходилось отмечать, что вагон третьего класса, подобно палубе корабля в античной мениппее, является заместителем площади, где люди разных положений оказываются в фамильярном контакте друг с другом. Так сошлись здесь нищий князь и купчик-миллионер. Карнавальный контраст подчеркнут и в их одежде: Мышкин в заграничном плаще без рукавов, с огромным капюшоном и в штиблетах, Рогожин в тулупе и сапогах.
«Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов» (VI, 7).
Эта удивительная готовность Мышкина открывать себя вызывает ответную откровенность со стороны подозрительного и замкнутого Рогожина и побуждает его рассказать историю своей страсти к Настасье Филипповне с абсолютной карнавальной откровенностью.
Таков первый карнавализованный эпизод романа.
Во втором эпизоде, уже в доме Епанчиных, Мышкин, в ожидании приема, в передней ведет беседу с камердинером на неуместную здесь тему о смертной казни и последних моральных муках приговоренного. И ему удается вступить во внутренний контакт с ограниченным и чопорным лакеем.
Так же по-карнавальному проницает он барьеры жизненных, положений и при первом свидании с генералом Епанчиным.
Интересна карнавализация следующего эпизода: в светской гостиной генеральши Епанчиной Мышкин рассказывает о последних моментах сознания приговоренного к смертной казни (автобиографический рассказ о том, что было пережито самим; Достоевским). Тема порога врывается здесь в отдаленное от порога внутреннее пространство светской гостиной. Не менее неуместен здесь и изумительный рассказ Мышкина о Мари. Весь этот эпизод полон карнавальных откровенностей; странный и, в сущности, подозрительный незнакомец – князь – по-карнавальному неожиданно и быстро превращается в близкого человека и друга дома. Дом Епанчиных вовлекается в карнавальную атмосферу Мышкина. Конечно, этому содействует детский и эксцентрический характер и самой генеральши Епанчиной.
Следующий эпизод, происходящий уже на квартире Иволгиных, отличается еще более резкой внешней и внутренней карнавализацией. Он развивается с самого начала в атмосфере скандала, обнажающего души почти всех его участников. Появляются такие внешне карнавальные фигуры, как Фердыщенко и генерал Иволгин. Происходят типичные карнавальные мистификации и мезальянсы. Характерна короткая резко карнавальная сцена в передней, на пороге, когда неожиданно появившаяся Настасья Филипповна принимает князя за лакея и грубо его ругает («олух», «прогнать тебя надо», «да что за идиот?»). Эта брань, содействующая сгущению карнавальной атмосферы этой сцены, совершенно не соответствует действительному обращению Настасьи Филипповны со слугами. Сцена в передней подготовляет последующую сцену мистификации в гостиной, где Настасья Филипповна разыгрывает роль бездушной и циничной куртизанки. Затем происходит утрированно-карнавальная сцена скандала: появление подвыпившего генерала с карнавальным рассказом, разоблачение его, появление разношерстной и пьяной рогожин ской компании, столкновение Гани с сестрой, пощечина князю, провоцирующее поведение мелкого карнавального чертенка Фердыщенко и т. д. Гостиная Иволгиных превращается в карнавальную площадь, на которой впервые скрещиваются и переплетаются карнавальный рай Мышкина с карнавальной преисподней Настасьи Филипповны.
После скандала происходит проникновенный разговор князя с Ганей и откровенное признание этого последнего; затем карнавальное путешествие по Петербургу с пьяным генералом и, наконец, вечер у Настасьи Филипповны с потрясающим скандалом-катастрофой, который мы в свое время уже проанализировали. Так кончается первая часть и вместе с нею – первый день действия романа.
Действие первой части началось на утренней заре, кончилось поздним вечером. Но это, конечно, не день трагедии («от восхода до захода солнца»). Время здесь вовсе не трагическое (хотя оно и близко к нему по типу), не эпическое и не биографическое время. Это день особого карнавального времени, как бы выключенного из исторического времени, протекающего по своим особым карнавальным законам и вмещающего в себя неограниченное количество радикальных смен и метаморфоз[120]. Именно такое время – правда, не карнавальное в строгом смысле, а карнавализованное время – и нужно было Достоевскому для решения его особых художественных задач. Те события на пороге или на площади, которые изображал Достоевский, с их внутренним, глубинным смыслом, такие герои его, как Раскольников, Мышкин, Ставрогин, Иван Карамазов, не могли быть раскрыты в обычном биографическом и историческом времени. Да и сама полифония, как событие взаимодействия полноправных и внутренне не завершенных сознаний, требует иной художественной концепции времени и пространства, употребляя выражение самого Достоевского, «неэвклидовой», концентрации.