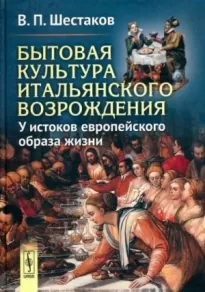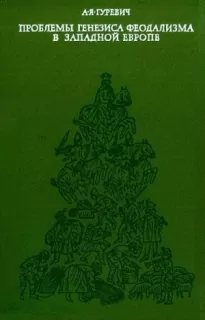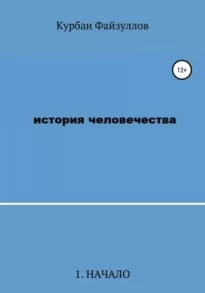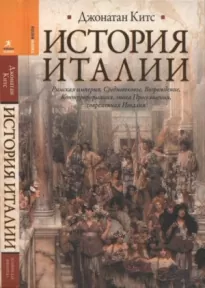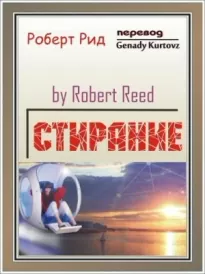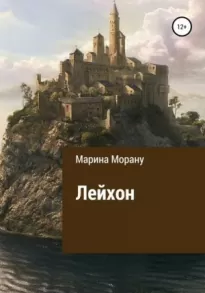Фундамент оптимизма
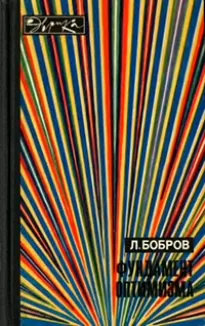
- Автор: Лев Бобров
- Жанр: Образование
Читать книгу "Фундамент оптимизма"
С появлением ЭВМ автоматизация вступила у нас в новую фазу. Примеров тому много. Хотелось бы упомянуть лишь один, возможно, и не самый яркий, зато симптоматичный.
Киевские ученые создали систему «Авангард» с управляющей машиной широкого назначения, УМШН, которой доверили проектирование и изготовление корпусных деталей корабля. Новая технология внедрена на одном из судостроительных заводов. На очереди автоматизация всего процесса — от проектных чертежей до спуска корабля со стапелей.
Подобного рода автоматизация осуществима в принципе и в строительстве самолетов, ракет, реакторов, ускорителей, на любом производстве. А когда-нибудь машины начнут создавать самих себя, совершенствуясь из поколения в поколение. Академик А. Колмогоров, например, не отрицает принципиальную возможность создавать самонастраивающиеся машины, способные не только ставить перед собой задачи, которые формулирует для себя человек, но и воспроизводить себе подобные автоматы.
Автомат в роли инженера, ученого — фантастика, которая становится реальностью. «Машина может брать тот или иной прибор и самостоятельно проводить эксперимент. Автоматизация исследований уже начинает осуществляться при решении таких задач, как, скажем, анализ снимков звездного неба или следов частиц, полученных при фотографировании ядерных реакций. Что касается теоретических наук, то здесь возникает не менее интересная задача автоматизации самого процесса научного творчества. В области математики это прежде всего процесс доказательства трудных теорем… Через 20–30 лет можно будет и в самом деле наблюдать такие случаи».
Эти слова принадлежат лауреату Ленинской премии академику В. Глушкову. Под его руководством выполнены работы, подтверждающие справедливость приведенного высказывания. Так, еще в 1958 году проведены успешные опыты с машинным доказательством некоторых алгебраических теорем. Аналогичные эксперименты американский математик В. Хао поставил в 1960 году.
«Русские начали работать над вычислительными машинами позже нас, но уже определенно сократили разрыв, — заявил в 1961 году американский ученый П. Армер после того, как он побывал в СССР. — В математике русские давно уже заслужили отличную репутацию. В вычислительной математике, я не сомневаюсь, они, в общем, перегнали Запад».
Одновременно с СССР на путь научно-технической революции ступили и другие социалистические страны.
В США научно-техническая революция начинается несколько раньше, чем где-либо на Западе, — в 50-х годах. Предпосылки ее складываются еще в первой половине нашего века. Но особенно благоприятные условия для автоматизации создала гонка вооружений. Еще в 1940–1944 годах американские монополии получили военные заказы на огромную сумму — 175 миллиардов долларов. Безработицы как не бывало; вчерашний «избыток голодных ртов» сменился нехваткой рабочих рук. Чтобы компенсировать недостаток людских ресурсов, чтобы обеспечить максимальную производительность машин при минимальной численности обслуживающего персонала, предпринимателям приходилось раскошеливаться на такие нововведения, которые до войны считались нерентабельными, не сулящими скорую прибыль. Возникли мощные стимулы автоматизации. Так США очутились у порога научно-технической революции.
Под непосредственным влиянием США научно-техническая революция начинается и в западноевропейских государствах, которые во многом обязаны ей своим послевоенным хозяйственным развитием. Неспроста в некоторых странах, даже изрядно разоренных войной (ФРГ, Италия), в 50-х годах заговорили об «экономическом чуде».
Но, пожалуй, наиболее яркую иллюстрацию того, как научно-техническая революция может преобразить облик страны, мы найдем не в Европе и не в Америке — в Азии. Это пресловутое «восточное чудо», «японский феномен».
«Мы в Европе еще очень часто думаем о японцах как о людях, которые нас догоняют. Но это уже не так: они нас перегоняют, — писала французская газета „Монд“. — Это мы, если смотреть на нас из Токио, кажемся людьми, тянущими груз в темпах XIX века, и это они оказываются людьми, которые быстрее, чем мы, устремились в 2000 год».
Япония, которая в 1945 году лежала в руинах, стала вторым индустриальным гигантом капиталистического мира. За 10 лет (с 1958 по 1968 год) объем промышленного производства в капиталистических странах увеличился на 55 процентов (в социалистических — на 83). А в Японии — на 245 процентов.
Японские эксперты «без ложной скромности» заявили, будто Страна восходящего солнца к 1990 году обойдет нынешнего лидера США по объему национального дохода в расчете на душу населения, то есть станет «самым богатым государством мира». Что, по крайней мере, в ближайшее время японская промышленность сохранит свои беспрецедентно высокие темпы ежегодного прироста (17–18 процентов), которые были гораздо выше, чем в США (4 процента) и даже в ФРГ (13 процентов). Оракулы грядущего просперити как бы забыли, что динамика этого развития не была устойчивой: подъемы перемежались спадами. Последний рывок — «бум Идзанаги», как величали его по имени божества, которое, если верить древним японским преданиям, сделало Страну восходящего солнца «пупом земли», — начался в 1965 году. Но, как и предвидели советские специалисты, вскоре закончился, подобно предшествовавшему ему «буму Ивато», продолжавшемуся с 1958 по 1961 год. Самый глубокий спад со времени «великой депрессии» 30-х годов, охватившей Запад в 70-х годах, не миновал и Японию.
И все же факторы «большого скачка» стали предметом анализа во всем мире. В длинном их списке (ничтожные собственные военные расходы и, напротив, солидные дивиденды от американских заказов в связи с войной в Индокитае, высокий уровень технической грамотности у японских трудящихся и в то же время относительно низкая заработная плата, ряд других факторов) обычно на одном из первых мест называют секрет, который в общем-то не нов, — он в искусстве снимать сливки научно-технического прогресса.
Предприниматели зорко следят за рынком изобретений во всем мире, выискивают самые многообещающие нововведения и, вместо того чтобы заново «открывать Америку», тут же импортируют их, не скупясь на оплату патентов и лицензий.
11 лет и 25 миллионов долларов затратил концерн «Дюпон де Немур» (США), чтобы разработать способ изготовления нейлона. Компания «Тоё Рэйон» (Япония) поступила проще — приобрела патент. За девять лет (1951–1959) она выплатила за него 7,5 миллиона долларов. Но расходы окупились с лихвой: один лишь экспорт нейлоновой продукции принес компании за тот же период 90 миллионов долларов. По выпуску искусственного волокна Япония опередила все другие страны.
Япония выигрывала раунд за раундом в соревновании со своим вчерашним победителем, нанесшим ей некогда атомный нокаут. Она одерживала верх даже в таких областях, где США были когда-то пионером. По производству транзисторных радиоприемников Япония заняла первое место в мире, а телевизоров и счетно-решающих устройств — второе. Они зачастую лучше американских и европейских.
А ведь до войны товары с клеймом «Made in Japan» слыли олицетворением недоброкачественности. Злые языки утверждали, будто японские часы покупались не поштучно, а на вес — пудами, словно лом. Велосипеды же, гнувшиеся под тяжестью седока, можно было рекламировать как верное средство незамедлительно отправиться на небо…
Парадоксально, но факт: Япония, обделенная полезными ископаемыми, не имеющая ни железа, ни нефти, ни других важнейших видов сырья, вырвалась в первую тройку металлургов и химиков.
Итак, научно-техническое «пенкоснимательство»? Да, но не только оно. Разрекламированная на весь свет кухня «японского чуда» держится и на другом старом рецепте — на энергичной модернизации оборудования. В обрабатывающей промышленности, например, оно ежегодно обновлялось на 20 процентов, так что средняя продолжительность жизни у него невелика — каких-нибудь пять-шесть лет. Такое форсированное омоложение машинного парка обходится, естественно, недешево. Что ж, за эту щедрость производство воздает сторицей — монополиям, разумеется.
Можно и далее изыскивать все новые факторы «чуда». В мире идей — открытий и изобретений, которые умело пересаживаются на японскую почву и прекрасно акклиматизируются на ней. Но разве недоступна такая «трансплантация» и всем другим странам благодаря патентным бюро? Да и практикуется она не в одной Японии, так что эта «специфика» японского феномена не столько объясняет его, сколько сама требует объяснений.
Ну а мир вещей? Машин и механизмов, которые отправляются на пенсию раньше, чем обычно, чтобы уступить место новым, более совершенным? Это тоже общеизвестное средство повысить эффективность; если же оно характерно прежде всего для Японии, то опять-таки почему? Быть может, более глубокие корни явления, его первичные, а не вторичные причины скрываются в мире людей, а не идей и вещей?
Многое приписывалось японскому национальному характеру. Трудолюбию, инициативности, дисциплинированности, терпеливости и другим важным качествам, способствующим успехам народа в созидательной работе. Все это так. И бесспорно, играло свою роль. Но ведь тот же этнопсихологический комплекс отличал японцев и 30 лет назад! Когда они делали гнущиеся велосипеды типа «земля — небо» и килограммами отвешивали хронометры своих марок любителям побрякушек-сувениров…
Тогда, быть может, наши современники сделаны совсем из другого теста? Обладают какими-то особыми талантами, которые появились вместе с новыми поколениями?
Такое предположение категорически отверг американский политэконом Д. Гелбрэйт. И выдвинул свое: «Подлинное достижение современной науки и техники состоит в том, что знания самых обыкновенных людей, имеющих узкую и глубокую подготовку, в рамках и с помощью соответствующей организации объединяются со знаниями других специально подготовленных, но таких же рядовых людей».
Организация труда… И не простая, а научная — НОТ. А управление? Оно тоже приняло на вооружение научные методы и технические достижения последних десятилетий. Особое значение здесь имело внедрение электронно-вычислительных машин. Конечно, онаучивание и технизация организации и управления не что иное, как вторжение в прежний мир людей нового мира идей и вещей. Но этому пополнению сопутствовало и другое — психологизации и социологизация подходов к организации и управлению, что предполагает учет индивидуальных особенностей работников, тщательный анализ взаимоотношений между личностью и коллективом.
Буржуазные исследователи заговорили на все лады об эре «гуманизации», сменившей эпоху «техницизма» в подходах к проблемам производства, его роста и развития (подлинную ценность этой фразы мы еще успеем установить).
Советский журналист Б. Чехонин, который с 1962 по 1967 год был собственным корреспондентом «Известий» в Токио, в своей книге «Многоликая Япония» отдает должное японским бизнесменам: им больше, чем западноевропейским, свойственно острое чувство нового. Их хищная зоркость позволяет им выявлять даже слабые ростки того, что сулит впоследствии сверхприбыль. Снимая сливки научно-технической революции, они заимствовали и усовершенствованные методы организации и управления.