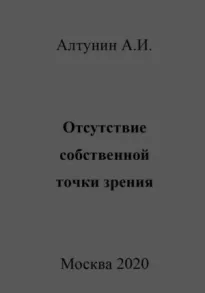Авессалом, Авессалом!
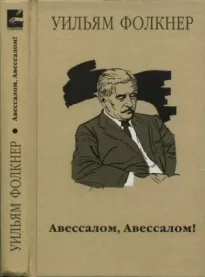
- Автор: Уильям Фолкнер
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2001
Читать книгу "Авессалом, Авессалом!"
И он уехал, а твой дедушка отправился в Сатпенову Сотню известить Джудит, и Клити вышла к дверям, окинула его долгим пристальным взором и, не сказав ни слова, пошла звать Джудит, а твой дедушка остался ждать ее в этой полутемной, мрачной, как склеп, гостиной, понимая, что ему не придется ничего говорить ни той, ни другой. И действительно не пришлось. Вскоре появилась Джудит; остановившись в дверях, она посмотрела на него и проговорила: «Я полагаю, вы не хотите мне ничего сказать». — «Не то что не хочу, а просто не могу, — ответил твой дедушка. — Но не из-за того, что я ему обещал. У него есть деньги, и ему...» — тут он умолк, и тогда между ними, невидимый, возник тот несчастный маленький мальчик, который восемь лет назад приехал сюда в парусиновой робе, натянутой поверх лохмотьев шелка и тонкого сукна; мальчик, который превратился в подростка, облаченного в рваную шляпу и комбинезон — форменную одежду своего наследственного проклятья[52]; он превратился в мужчину с мужскою силой, но все равно остался тем же одиноким заброшенным ребенком во власянице из кожи и дерюги, и твой дедушка лепетал жалкие слова, произносил пустые лицемерные софизмы, которые мы называем утешением, а сам думал Лучше бы он умер, лучше б он совсем не родился на свет; потом ему пришло в голову, что, если б он сказал это вслух, для нее это было бы пустым, излишним повтореньем, ибо она наверняка не раз уж говорила, думала то же самое, только в другом роде и числе. Он возвратился в город. А потом, в следующий раз, за ним больше не посылали; он узнал об этом так же, как узнал весь город — из слухов, что передают из уст в уста негры; он же, Чарльз Этьен Сент-Валери Бон, был уже здесь (не дома, просто здесь); о том, как он вернулся, твой дедушка узнал позже, он появился с угольно-черной обезьяноподобной женщиной и с самым настоящим брачным свидетельством; вернее, эта женщина его привезла — незадолго перед тем его так избили и изувечили, что он едва сидел на своем неоседланном колченогом муле, и жена шла рядом и поддерживала его, чтобы он не свалился; он подъехал к дому и, по всей вероятности, швырнул в лицо Джудит это брачное свидетельство с тем же беспросветным отчаянием, с каким бросался на негров во время игры в кости. И никто так никогда и не узнал, какие невероятные события произошли в тот год, что он отсутствовал, — сам он никогда о них не говорил, а женщина, которая даже еще год спустя, после рождения их сына, все еще пребывала в том же состоянии, в каком явилась — оцепеневшая от ужаса, она действовала как автомат, ничего об этих событиях не рассказывала, а возможно, и не умела рассказать, но постепенно они каким-то жутким непонятным образом начали выделяться из ее пор, словно капли холодного пота, вызванного страхом и болью: как он ее нашел, вытащил из какого-то неведомого двухмерного захолустья (был ли это город или деревня и как это место называлось, она либо никогда не знала, либо от потрясения, вызванного исходом оттуда, название его навсегда выскочило у нее из головы), где даже она со своим слабым умом могла добыть себе кров и пропитание, и как он на ней женился — он, без сомнения, водил ее рукой, когда она старательно рисовала крест в книге метрических записей, еще не успев узнать ни как его зовут, ни что он — не белый (никто не мог с уверенностью утверждать, что она знает это даже теперь, даже после того, как она родила сына в одной из полуразвалившихся лачуг, где прежде жили рабы — он перестроил ее, после того как взял у Джудит в аренду маленький участок земли); как прошел еще примерно год, состоявший из периодов полнейшей неподвижности — словно порвалась кинолента — когда белокожий человек, который на ней женился, лежал на спине,, приходя в себя от последних затрещин, полученных им в грязных вонючих трущобах каких-то больших и малых городов, чьих названий она тоже не знала; они сменялись другими периодами или промежутками бешеного, непонятного и явно бессмысленного движенья, перемещения в пространстве, водоворотом лиц и тел, сквозь которые он прорывался, увлекая ее за собой — куда или откуда он бежал, какое безумие лишало его мира и покоя, она тоже не знала, и каждый такой рывок кончался, завершался тем же, чем и предыдущий, так что это уже превратилось в некий ритуал. При этом он явно искал случая похвалиться, похвастать своей обезьяноподобной угольно-черной спутницей перед каждым, кого это непременно должно было привести в бешенство: перед чернокожими портовыми грузчиками и матросами на пароходах или в городских притонах — они принимали его за белого и не верили ему тем больше, чем упорнее он это отрицал; перед белыми — услышав от него, что он негр, они решали, что он врет для спасения своей шкуры или, еще хуже, что он окончательно свихнулся от половых извращений, и в обоих случаях результат был один: тоненький и хрупкий, как девушка, почти всегда безоружный, он, невзирая на численное превосходство противника, всегда первым лез в драку, с неизменной яростью и презрением к боли, и при этом не бранился, не задыхался, а только хохотал.
И вот он показал Джудит свое свидетельство, привел свою жену — она была уже почти на сносях — в развалившуюся лачугу, которую выбрал себе для жилья и отремонтировал; он поместил, посадил ее туда, как собаку в конуру, и возвратился в дом. И никто не знает, что произошло между ним и Джудит в одной из не застланных ковром комнат, где еще оставались стулья и другая мебель, которую не успели разрубить и сжечь, чтобы сварить еду, истопить печку или вскипятить воды, когда время от времени кто-нибудь хворал; между женщиной, которая овдовела, не успев обвенчаться, и сыном ев покойного жениха и потомственной наложницы-негритянки, которому его черная кровь претила куда меньше, чем белая, и все это со странно преувеличенным упорством, тем более яростным, чем более он осознавал невозможность ее изринуть — точно так же, наверное, вел бы себя сам демон.
(Потому что это была любовь сказал мистер Компеон Было письмо, которое она принесла и отдала на сохранение твоей бабушке. Он (Квентин) видел его — видел так же ясно, как то, что лежало открытое на открытом учебнике перед ним на столе — белое в темной руке отца на фоне его полотняной штанины в сентябрьских сумерках, благоухающих сигарой, глицинией и полных мечущихся светлячков; он думал Да. Я слышал слишком много, мне рассказали слишком много, мне пришлось слушать слишком долго, слишком много. Да думал он Шрив говорит почти так же, как отец; это письмо. И кто знает, о каком нравственном возрождении она размышляла в уединенье этого дома, этой комнаты, этой ночи; о каком преодолении железных традиций — ведь чуть ли не все остальное, что она привыкла считать незыблемым, прямо у нее на глазах исчезало, как соломинки, развеянные ураганом, — она сидела там: возле лампы на прямом жестком стуле, прямая, в том же ситцевом платье, только теперь без шляпы, с непокрытой головой, с сединою в некогда черных как смоль волосах, а он стоял и смотрел на нее. Он ни за что не хотел сесть; быть может, она ему даже и не предложила; и ее холодный ровный голос звучал немногим громче, чем трепет пламени горящей лампы: «Я была неправа. Я это признаю. Я считала, что есть вещи, которые до сих пор имеют значение просто потому, что они имели значение прежде. Но я была неправа. Ничто не имеет значения, кроме дыхания, кроме того, чтобы дышать и знать и жить. Но ребенок, брачное свидетельство, документ. Как быть с ними? Этот документ связывает тебя с женщиной, которая что ни говори, а негритянка; его можно спрятать, никто не посмеет о нем вспомнить, как о любой другой выходке необузданного пылкого юноши. А что до ребенка, это не страшно. Ведь мой отец тоже родил такого ребенка, и ничего не случилось. Если хочешь, мы можем оставить у себя эту женщину с ребенком, они могут жить здесь, и Клити будет...» — говоря это, она следила за ним, вглядывалась в него; все еще не двигаясь, не шевелясь, она сидела прямо, руки неподвижно лежали на коленях, ока едва дышала, словно он был какой-то дикой тварью или птицей, которую может вспугнуть легчайшая дрожь ее ноздрей или трепет ее груди: «Нет, я. Я буду его воспитывать, я позабочусь, чтобы он... ему не надо никакого имени; тебе не надо больше ни видеть его, ни о нем беспокоиться. Мы попросим генерала Компсона продать часть земли; он ее продаст, и ты сможешь уехать. На север, в большие города, где не будет иметь значения, даже если... Но они этого не сделают. Они не посмеют. Я скажу им, что ты — сын Генри, и кто сможет или посмеет это оспаривать...», а он стоял и смотрел на нее или не смотрел, она не знала, потому что он опустил голову, и лица его — ничем не выдававшего его чувств тонкого лица — не было видно; она следила за ним, боясь пошевельнуться, она прошептала, вполне ясно, вполне четко, но так, что звуки ее голоса едва достигали его слуха: «Чарльз», а он ответил ей: «Нет, мисс Сатпен», и она, все еще не шевелясь, не дрогнув ни единым мускулом — казалось, будто она стоит возле зарослей, куда ей удалось заманить какое-то животное; она его не видит, но знает, что оно за ней следит; оно не притаилось; не испугалось, не встревожилось, а просто пребывает в легком возбужденье, всегда сопутствующем свободным существам, что не оставляют даже следа на земле, которая их носит, — и, не смея протянуть руку, чтобы его коснуться, она обращается к нему мягким замирающим голосом, исполненным того небесного соблазна, что составляет главное оружие женщины: «Называй меня тетя Джудит, Чарльз») Да, кто знает, сказал ли он что-нибудь или, вовсе ничего не сказав, повернулся и вышел из комнаты, а она все еще сидела, не шевелясь, не двигаясь с места, смотрела на него, все еще видела его, и взор ее, проникая сквозь стены и ночную тьму, следил за тем, как он шел обратно по заросшему травой проулку между заброшенными полуразвалившимися хижинами к лачуге, где ждала его жена, шагал тернистым каменным путем к Гефсимании[53], что сам себе определил и создал, где он сам себя распял и, на мгновение сойдя со своего креста, теперь вновь к нему возвращался.
Да, может, кто и знал все это, но только не твой дедушка. Он знал лишь то, что знал весь город и весь округ: что чужой мальчик, за которым Клити присматривала и которого учила работать на огороде и в поле, который уже взрослым мужчиной сидел в тот день перед судом — голова перевязана, одна рука висит на повязке, на другой защелкнуты наручники, — который исчез, а потом снова вернулся с законной женой, похожей на обезьяну из зверинца, теперь взял в аренду часть Сатпеновой плантации и довольно успешно ее обрабатывал, трудился в полном одиночестве, упорно и настойчиво, насколько ему позволяли его физические силы, его тело, руки и ноги, все еще казавшиеся слишком хрупкими и слабыми для той задачи, что он себе поставил; который жил отшельником в собственноручно перестроенной хижине, где вскоре родился его сын, и не якшался ни с белыми, ни с черными (Клити теперь его не караулила, в этом уже не было нужды) и которого за следующие четыре года видели в Джефферсоне всего три раза, да и то лишь в тех случаях, когда, по словам негров, смертельно боявшихся как его, так и Клити с Джудит, он был либо не в себе, либо мертвецки пьян, на Привокзальной улице, где находились негритянские лавки; его уводил оттуда твой дедушка (а если он был слишком пьян и буянил, городские полицейские); дедушка оставлял его у себя до тех пор, пока его жена, эта черная мегера — в ней, казалось, жили только глаза и руки, — не сможет запрячь мулов, приехать, взвалить его на повозку и отвезти домой. Поэтому вначале никто даже не заметил, что он не появляется в городе, и только главный врач округа сказал твоему дедушке, что у него желтая лихорадка, что Джудит велела перенести его к ней в дом и сама за ним ухаживает и что теперь Джудит тоже заболела, и тогда твой дедушка попросил его известить об этом мисс Колдфилд, а сам поехал туда. Он не спешился; он сидел в седле, пока наконец Клити не выглянула из окна верхнего этажа и не сказала, что «им ничего не надо». Через неделю твой дедушка убедился, что Клити была права или, во всяком случае, оказалась права позже, хотя первой умерла Джудит.