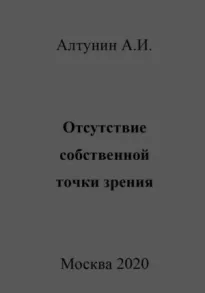Авессалом, Авессалом!
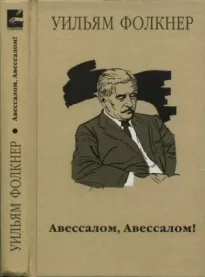
- Автор: Уильям Фолкнер
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2001
Читать книгу "Авессалом, Авессалом!"
VII
Теперь на рукаве у Шрива не было снега, не было у него и рукава, виднелось только гладкое, пухлое, как у купидона, предплечье и еще рука; рука двинулась к пятну света от лампы, взяла трубку в пустой банке из-под кофе, в которой он держал трубки, набила ее и зажгла. Значит, на улице температура около нуля, подумал Квентин; скоро он откроет окно и начнет делать дыхательные упражнения; раздевшись до пояса и крепко сжав кулаки, он будет глубоко дышать на фоне теплого розоватого отверстия, выходящего на студеный четырехугольный дворик. Но он еще не начал; с той минуты, как Квентин это подумал, прошел уже час, и теперь трубка лежала на столе выкуренная, опрокинутая и пустая, из нее высыпалось немного пепла, а Шрив, скрестив на столе розовые, покрытые рыжеватыми волосками руки, посматривал на Квентина сквозь непроницаемые стекла очков, в которых двумя лунами сияло отражение лампы.
— Значит, он просто хотел иметь внука, — сказал Шрив. — Вот чего он добивался. О господи, этот Юг просто великолепен, верно? Он лучше всякого театра, верно? Лучше Бен Гура[55], верно? Не удивительно, что временами оттуда нужно удирать, верно?
Квентин ничего не ответил. Он спокойно сидел за столом, положив руки по обе стороны раскрытого учебника, на котором покоилось письмо, четырехугольный лист бумаги, сложенный посередине и теперь на три четверти развернувшийся, причем большая его часть под воздействием рычага, которым служил этот старый сгиб, поднялась и повисла в воздухе, словно вопреки всем законам природы лишилась веса; впрочем, письмо лежало так косо, что даже и без этого дополнительного искажения он не мог бы ничего в нем ни прочесть, ни разобрать. Однако он все же смотрел на письмо — во всяком случае, так казалось Шриву, — слегка опустив голову, погрузившись в раздумье, словно чем-то недовольный.
— Он сообщил об этом дедушке, — сказал он. — Это было, когда архитектор сбежал или пытался сбежать в долину реки, чтобы вернуться в Новый Орлеан или куда-то там еще, и он... («Кто, демон?» — спросил Шрив. Квентин ему не ответил, не остановился; голос его звучал ровно и как-то странно — не то сонно, не то с затаенной досадой, и потому Шрив — на нем были только очки и больше ничего (ниже талии его тело закрывал стол, так что всякий вошедший в комнату решил бы, что он совершенно голый), он напоминал бюст в стиле барокко, вылепленный из раскрашенного сдобного теста неким скульптором, отчасти склонным к извращенным видениям, какие бывают в ночных кошмарах — тоже сидел тихо и смотрел на него пристальным задумчивым взглядом)... он известил дедушку и остальных, — продолжал Квентин, — взял своих диких негров и гончих собак, выследил архитектора и через два дня загнал его в пещеру на берегу реки. Это было вторым летом, когда они заготовили весь кирпич и заложили фундамент и срубили и обработали большую часть строевого леса, и однажды архитектор вдруг почувствовал, что не может больше выдержать, или испугался, что умрет с голоду или что у диких чернокожих (а может, и у самого полковника Сатпена) кончится провиант, и они его сожрут, а может, его обуяла тоска по родине, или ему просто захотелось уйти... («Может, у него была девушка, — вставил Шрив. — А может, ему просто понадобилась девушка. Ты ведь говорил, что у демона и у черномазых их было всего две». Квентин и на это не ответил; возможно, он опять не слышал; он продолжал говорить тем же странным, спокойным, глухим голосом, словно обращался к столу, к книге на столе, к лежащему на книге письму или к своим рукам, лежащим по обе стороны книги)... и он ушел. Исчез средь бела дня, прямо на глазах у двадцати одного человека. А может, Сатпен как раз повернулся к нему спиной, а черномазые видели, как он уходит, но не сочли нужным об этом говорить — будучи дикарями, они, наверно, не знали, что у Сатпена на уме, хоть он и возился целыми днями вместе с ними голышом в грязи. По-моему, черномазые вообще понятия не имели, зачем нужен этот архитектор, что он должен делать, уже сделал, может сделать или делает, и они, наверно, подумали, что Сатпен сам его отослал, велел уйти с глаз долой, утопиться, умереть или попросту убраться на все четыре стороны. Так он и сделал — средь бела дня вскочил и в своем вышитом жилете, в галстуке, как у лорда Фаунтлероя, в шляпе, какие обычно носят члены конгресса — баптисты (шляпу он, наверно, держал в руке), убежал в болото, а черномазые следили за ним, пока он не скрылся из виду, а потом опять взялись за работу, и Сатпен хватился его только вечером, скорее всего за ужином, и тогда черномазые ему все рассказали, и он объявил, что завтра работы не будет, потому что он должен раздобыть собак. Не то чтобы ему нужны были собаки — он мог пустить по следу и своих черномазых, но он, наверное, подумал, что гости не привыкли пускать по следу черномазых и захотят, чтоб были собаки. А дедушка (он тогда тоже был молодой) захватил шампанское, другие гости захватили виски, и вскоре после заката солнца все начали съезжаться к дому, который еще стоял без стен — лишь несколько рядов кирпича торчало из земли, но их это ничуть не трогало, потому что, как рассказывал дедушка, спать они не ложились. Они сидели у костра, пили шампанское и виски, закусывали окороком оленя, которого застрелил Сатпен, а в полночь явился человек с собаками. Вскоре рассвело, но собаки сначала не могли взять след, потому что несколько диких черномазых уже с милю пробежали по следу — просто так, забавы ради. Но в конце концов на след они напали; собаки и черномазые шли по речной пойме, а всадники ехали с краю, где дорога была получше. Но дедушка и полковник Сатпен ехали с собаками и с черномазыми, потому что Сатпен боялся, как бы черномазые не изловили архитектора прежде, чем он успеет их догнать. Им с дедушкой пришлось порядочно пройти пешком — один из черномазых обходил с лошадьми топи, а потом они снова садились в седло. Дедушка рассказывал, что погода была прекрасная и что след был хороший, но Сатпен утверждал, что было бы еще лучше, если б архитектор дождался октября или ноября. Вот тогда-то он и рассказал дедушке о себе.
Сатпен был отмечен невинностью духа, вот в чем состояла его беда. Ему вдруг открылось не то, что он хотел сделать, а то, что ему непременно нужно, необходимо было сделать, хотел он того или нет, потому что, не сделай он этого, ему до конца дней своих не жить в ладу с самим собой и с тем, чем наделили его все люди, которые умерли ради того, чтобы он жил, и хотели, чтобы он передал это дальше; не жить, зная, что все умершие ждут и следят, чтобы он сделал это как следует, сделал все как следует, так, чтобы он мог смотреть в глаза не только давно умершим, но и всем живым, что придут после него, когда и он тоже умрет. И в ту самую минуту, когда ему открылось, что именно он должен делать, он понял, что меньше всего на свете к этому подготовлен: ведь он не только не знал, что ему придется это делать, он даже не знал, что такие вещи существуют, что их можно захотеть, что их необходимо сделать, не знал чуть ли не до четырнадцати лет. Ведь он родился в Западной Виргинии, в горах... («Только не в Западной Виргинии», — сказал Шрив. «Как так?» — спросил Квентин. «Только не в Западной Виргинии, — повторил Шрив. — Потому что если в 1833 году в Миссисипи ему было двадцать пять лет, значит, он родился в 1808 году. А в 1808 году не было никакой Западной Виргинии[56], потому что...» — «Ладно», — сказал Квентин. «...Западная Виргиния была принята только...» — «Ладно, ладно», — сказал Квентин, «...была принята в Соединенные Штаты только...» — «Ладно ладно ладно», — сказал Квентин) ...он родился там, где те немногие, кого он знал, жили в бревенчатых хижинах, в которых так же кишмя кишели ребятишки, как и в той хижине, в которой родился он; там, где мужчины и молодые парни либо ходили на охоту, либо валялись на полу у очага, а женщины и девушки постарше переступали через них, чтобы добраться до очага и сварить еду; там, где единственными цветными были индейцы, да и тех можно было увидеть лишь в прицел ружья; родившись там, он даже никогда не слыхал, не мог представить себе, что существует место, где землю аккуратно поделили и присвоили люди, которые только и делают, что скачут по ней верхом на красивых лошадях или сидят разодетые в красивые наряды на верандах своих больших домов, в то время как другие на них работают; он тогда еще не мог себе представить, что такая жизнь существует, или что кто-нибудь хочет такой жизнью жить, или что существуют все те вещи, какие у них там есть, или что владельцы этих вещей не только могут свысока смотреть на тех, у кого их нет, но что в этом им помогают не только другие владельцы таких же вещей, но даже и те самые люди, на кого они смотрят свысока, те, у кого этих вещей нет и никогда не будет. Ведь там, где он жил, земля принадлежала всем и каждому, и потому человек, который бы не поленился обнести забором кусок земли и сказать: «Это мое»[57], был просто сумасшедший; а что до вещей, то ни у кого не было их больше, чем у тебя, потому что у каждого их было ровно столько, сколько он был в силах взять и удержать, и лишь тот сумасшедший не поленился бы захватить или даже просто пожелать больше вещей, чем он способен был бы съесть либо обменять на порох или виски. Потому-то он и не знал, что существует земля, которая вся аккуратно разделена и закреплена, а на ней живут люди, которые тоже аккуратно разделены и закреплены в зависимости от того, какого цвета у них кожа и чем они владеют, и где немногие присвоили себе право не только распоряжаться жизнью и смертью других, не только их обменивать, покупать и продавать, но еще и заставлять других людей без конца оказывать им разные личные услуги, например наливать виски из бутыли в стакан и подносить им этот стакан или снимать с них сапоги, когда они ложатся спать, — иначе говоря, делать за них все, что люди с незапамятных времен должны были делать и делают сами за себя, пока не умрут, хоть это вовсе никому не нравится и никогда не понравится, но что все, кого он знал, никогда не помышляли переложить на других, точно так же, как им не пришло бы в голову, что за них могут жевать, глотать или дышать. Ребенком он не прислушивался к туманным и путаным рассказам о роскошной жизни на Тайдуотере[58], которые проникали даже к ним в горы; он тогда не понимал, о чем идет речь; став подростком, он их не слушал, потому что вокруг не было ничего, с чем эти рассказы можно было бы сравнить или чем измерить, чтобы придать словам жизнь и смысл; он никак не мог понять, о чем идет речь, потому что был слишком занят своими мальчишескими делами; когда же он стал юношей и любопытство извлекло из памяти те рассказы, о которых он думать забыл, не помнил даже, что когда-то их слышал, он заинтересовался и даже захотел взглянуть на эти места, но без всякой зависти и сожаления, просто он был уверен, что одни люди плодятся в одном месте, а другие — в другом; одних наплодили богатыми (он мог бы сказать — везучими), а других — нет; причем (так он сказал дедушке) от самих людей почти ничего не зависит, а значит, им не о чем жалеть — ведь ему никогда не приходило в голову, что кто-либо может извлечь из подобного слепого случая право или основание смотреть свысока на других, на любых других. И поэтому он мало что знал о таком мире, покуда сам туда не попал.