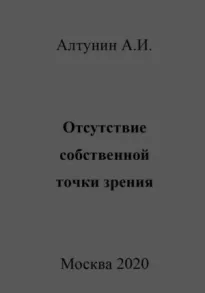Авессалом, Авессалом!
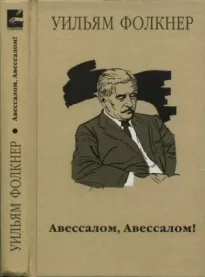
- Автор: Уильям Фолкнер
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2001
Читать книгу "Авессалом, Авессалом!"
Он даже не помнил, как оттуда ушел. Он вдруг увидел, что бежит уже на довольно большом расстоянии от дома и совсем не в сторону своей хижины. Он говорил, что не плакал. Он даже не обиделся. Ему просто надо было собраться с мыслями, и потому он направился туда, где мог спокойно посидеть и подумать. Он пошел в лес. Он говорил, что не приказывал себе, куда идти, его тело и ноги сами пошли туда — к тому месту, где звериная тропа углублялась в заросли тростника, а рухнувший дуб образовал нечто вроде норы, где он держал чугунную сковородку, на которой иногда жарил мелкую дичь. Он говорил, что забрался в эту нору, прислонился к вырванному из земли корневищу и стал думать. Он еще не мог разобраться, что же с ним произошло. Он даже еще не понял, что вся его беда, вся незадача заключается только в его невинности — ведь понять это он мог лишь после того, как во всем разберется. Поэтому он стал копаться в своем скудном жизненном опыте в поисках какой-нибудь мерки, которую можно было бы приложить к этому происшествию, но так ничего и не нашел. Ему велели отправляться к заднему крыльцу еще прежде, чем он успел изложить данное ему поручение; между тем он вырос среди людей, в чьих домах вообще не было никакого заднего крыльца, а лишь окна, и через окна входил или выходил тот, кто хотел либо спрятаться, либо убежать, он же не прятался и не бежал. Ведь он пришел по делу, чистосердечно полагая, что говорить по делу можно с каждым. Он, разумеется, не ожидал, что его пригласят к столу — ведь время, расстояние от одного кухонного горшка до другого не измеряют днями и часами; возможно, он вообще не ожидал, что его пригласят в дом. Но он ожидал, что его выслушают, потому что он пришел, был послан по делу, которое — хотя он не помнил и в то время (по его словам), возможно, даже и не понимал, в чем оно состоит, — было, конечно, как-то связано с плантацией, благодаря которой существовал на свете этот красивый белый дом, эта красивая, белая, окованная медью дверь и даже суконная ливрея, белье и шелковые чулки той черномазой обезьяны, которая отправила его к заднему крыльцу прежде, чем он успел хотя бы изложить свое дело. Вроде как если бы его послали отнести кусок свинца или даже отлитые пули, чтобы владелец того прекрасного ружья мог ими пострелять, а тот подошел бы к дверям, велел ему оставить пули на пеньке у опушки леса и даже не позволил подойти поближе полюбоваться ружьем.
Потому что он вовсе не обиделся. Он упорно твердил это дедушке. Он просто размышлял; он понимал: необходимо что-то сделать, непременно надо что-то сделать, иначе он до конца дней своих не сможет жить в ладу с самим собой; но что именно надо сделать — он не знал, не знал из-за той невинности духа, которую он только что в себе открыл и с которой (именно с этой невинностью, а не с этим человеком и не с обычаем) ему и придется вступить в борьбу. Единственный масштаб, мерило, давало ему сравнение с ружьем, но оно тут ровно ничего не объясняло. Он был совершенно спокоен, говорил он; охватив руками колени, он сидел в своей маленькой берлоге у звериной тропы, и, когда ветер дул в его сторону, в каком-нибудь десятке футов от него несколько раз проходили олени; сидел и потихоньку вел спор с самим собой, и оба спорщика соглашались, что надо бы спросить кого-нибудь постарше и похитрее. Но никого такого не было, был только он один, вернее, в его теле их было двое, и эти двое тихо и мирно спорили друг с другом Но ведь я могу его пристрелить (не черномазую обезьяну. Этот черномазый значил не больше, чем тот, которого его отец в ту ночь отдубасил. Этот черномазый опять-таки был всего лишь намалеванной на воздушном шаре надутой гладкой рожей, которая заливалась таким зычным, громким и жутким смехом, что он не смел ее проткнуть; и в ту секунду, когда она, загородив полуоткрытую дверь, смотрела на него сверху вниз, какая-то частица его существа от него отделилась и — он даже не мог закрыть ей глаза — уставилась на него из той самой намалеванной на шаре рожи, точь-в-точь как тот человек, которому даже незачем было носить свои собственные башмаки, человек, которого этот шар своим смехом защищал и ограждал от всех ему подобных, из какого-то невидимого места, где бы ему (тому человеку) в ту минуту ни случилось быть, смотрел на косолапого босоногого мальчишку, стоявшего перед закрытой дверью в своей залатанной одежонке, смотрел сквозь него и через него, а сам он увидел своего отца, братьев и сестер такими, какими, наверно, видел их все время хозяин, богач (а не черномазый) — скотами, тупыми уродливыми тварями, которых грубо вышвырнули в этот мир, где не было для них ни надежды, ни цели, и которые, в свою очередь, будут бесконечно плодиться и размножаться и, удваивая, утраивая, многократно умножая свое число, заполнят мировое пространство и землю отвратительным племенем, которому в будущем предстоит носить все те же ушитые, латаные-перелатаные одежки, купленные ими, потому что они белые, в кредит по грабительской цене в лавках, где черномазые получают ту же одежду бесплатно, а единственное их наследство — это намалеванная на воздушном шаре, захлебывающаяся от смеха рожа, которая глядела на какого-то забытого безымянного прародителя, когда он маленьким мальчиком постучался в дверь, и черномазый прогнал его на заднее крыльцо): Но я могу его пристрелить, — говорил он самому себе, а тот, другой, возражал: Нет. От этого не будет никакого проку; и тогда первый спрашивал: Так что же нам делать?, а второй отвечал: Не знаю, а первый: Но ведь я могу его застрелить. Я проберусь туда сквозь кусты, дождусь, когда он придет и ляжет в гамак, и пристрелю его; второй же говорил: Нет. От этого не будет никакого проку; и тогда первый спрашивал: Так что же нам делать?, а второй говорил: Не знаю.
В конце концов он проголодался. Он вышел из дому еще до обеда, а теперь в его тайнике было уже темно, хотя он видел, что солнце все еще освещает верхушки деревьев вокруг. Но желудок говорил ему, что уже поздно, а когда он придет домой, будет еще позже. И вот тут-то, по его словам, он начал думать Домой. Домой и сначала ему показалось, что он хочет засмеяться, и он продолжал уверять себя, будто смеется, даже когда понял, что это вовсе никакой не смех; домой, подумал он, когда вышел из лесу, приблизился к своей лачуге и увидел прогнившие необтесанные бревенчатые стены, просевшую прохудившуюся крышу — никто и не думал заменять недостающие дранки, а под те места, где крыша протекала, просто подставляли тазы и ведра; пристройку, служившую кухней, — она была в самый раз, потому что в сухую погоду никто не замечал, что печка без трубы, а когда шел дождь, ею просто не пользовались; во дворе он увидел сестру — склонившись над корытом, она мерно сгибала и разгибала спину; на ней было бесформенное ситцевое платье, стоптанные отцовские башмаки без шнурков хлопали ее по голым ногам; широкозадая, как корова, она равнодушно и тупо выполняла свой неблагодарный труд, тяжелую, доведенную до своей грубой первоосновы бессмысленную работу, которую способна выдержать лишь тупая бессловесная тварь, и только теперь сказал он, он впервые задался вопросом, что сказать отцу, когда тот спросит, выполнил ли он поручение, сказать ему правду или соврать — ведь, если он соврет, обман может тотчас же открыться: хозяин, наверно, уже послал черномазого узнать, почему отец не сделал, что ему было велено, и даже ничем не отговорился — если в этом состояло поручение, в чем (зная своего отца) он был почти уверен. Но отец еще не возвращался, и пока все обошлось. Зато сестра, казалось, только и ждала — не дров, а того, что он придет и даст ей возможность пустить в ход свои голосовые связки, и не успел он появиться, как она тут же набросилась на него с криками, требуя, чтоб он принес ей дров; он не отказывался, не возражал, он просто ее не слушал, не обращал на нее внимания, потому что все еще думал. Потом пришел отец, сестра на него пожаловалась, и старик отправил его за дровами; его не спросили о поручении ни за ужином, ни когда он улегся на тюфяк — лечь в постель означало просто растянуться на тюфяке, — однако он не уснул, а просто лежал, подложив под голову руки, но о поручении опять не было речи, и он так и не мог решить — соврать или нет. Ведь, как он говорил дедушке, самое страшное до него еще не дошло; он просто лежал, а те двое, расположившись поудобней у него внутри, не перебивая друг друга, спокойно, рассудительно и беззлобно продолжали свой спор: Но я могу его убить. — Нет. От этого не будет никакого проку. — Что ж нам тогда делать? — Не знаю; — а он, по его словам, без особого любопытства прислушивался, а потом даже и слушать перестал, хотя слова все еще доходили до его сознания. В голове его теснились совсем непрошеные мысли, они возникли сами по себе, потому что хотя они и были вполне естественны для мальчишки, для ребенка, он не обращал никакого внимания и на них, потому что всякому мальчишке пришло бы в голову то же самое, и ему было ясно: чтобы сделать то, без чего он не сможет жить в ладу с самим собой, он должен сначала все хорошенько обмозговать, как подобает мужчине, и вот он думал Черномазый так и не дал мне ничего ему сказать, и теперь он (опять-таки не черномазый) ничего про это не узнает, а того, что надо было сделать, теперь никто не сделает, и он про это тоже не узнает, а когда узнает, то будет слишком поздно, ну и поделом ему: чего он своему черномазому велел такими делами заниматься, а вдруг меня послали сказать, что у него горит конюшня или дом, а черномазый и тогда не дал бы мне и слова вымолвить, его предупредить. А потом, говорил он, он вдруг перестал думать, а вроде как бы крикнул, да так громко, что могли услышать сестры на другом тюфяке и храпевший спьяну отец с двумя малышами на кровати Он так и не дал мне ничего сказать, а папаня так и не спросил меня, сказал я ему или нет, и потому он вовсе не знает, что папаня хотел ему чего-то передать; так выходит, ему все равно, узнает он про это или нет, а папане и подавно; выходит, я туда пришел, только чтобы тот черномазый велел мне больше никогда не подходить к ихней парадной двери; и выходит, если б я ему сказал, ему бы это не помогло, а если б не сказал, ему бы это не повредило; вот и выходит, что я ничем на свете не могу ни помочь ему, ни повредить. И вот, рассказывал он, произошел как бы взрыв — яркая ослепительная вспышка, она появилась и исчезла, не оставив за собой ни пепла, ни других следов; перед ним открылась бесконечная плоская равнина, посреди которой, словно памятник, торчала суровая глыба его нерушимой невинности, и эта невинность поучала его так же спокойно, как разговаривали те двое, она использовала его же сравнение с ружьем, и когда она говорила они вместо он, это значило гораздо больше, чем все вместе взятые ничтожные людишки, которые могут целый день валяться в гамаках без башмаков; и он размышлял: «Если ты задумал воевать с теми, у кого есть хорошие ружья, ты должен первым делом раздобыть себе ружье, хотя бы и похуже, чем у них, — взять его взаймы, украсть или смастерить сам, верно?» — и отвечал себе: «Верно. Да только дело не в ружье. Если ты задумал с ними воевать, тебе надо, чтоб у тебя было все, что есть у них, все, что позволяет им поступать так, как поступил тот человек. Надо, чтоб у тебя была земля, черномазые и красивый дом, и тогда ты сможешь с ними воевать. Понял?» — и снова согласился: «Понял». В ту ночь он ушел. Он проснулся до рассвета, встал с постели точно так же, как и лег: просто поднялся с тюфяка и на цыпочках вышел из дома. Он больше никогда не видал своих родных.