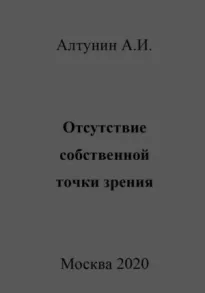Авессалом, Авессалом!
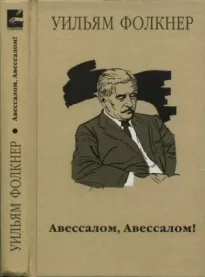
- Автор: Уильям Фолкнер
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2001
Читать книгу "Авессалом, Авессалом!"
О да, их там было множество — тех, кто готов был подстрекать его, помогать ему, превратить это в скачки; воскресенье, десять часов утра, коляска на двух колесах вихрем подлетает прямо к дверям церкви, на облучке этот дикий негр в человеческой одежде — ни дать ни взять дрессированный тигр в полотняном пыльнике и в цилиндре, а Эллен — ни кровинки в лице — держит этих двоих детей, которые не плачут и которых вовсе не нужно держать; они сидят у нее по бокам совершенно спокойно, и на их детских лицах написано что-то бесконечно отвратительное — тогда мы еще не совсем это распознали. О да, там было множество тех, кто его подстрекал, кто ему содействовал; ведь даже он не мог бы устроить скачки без соперников. Потому что его остановило даже не общественное мнение и даже не мужчины, чьи жены и дети сидели в колясках, которые могли перевернуться и свалиться в канаву, его остановил сам священник — он выступил от имени женщин Джефферсона и округа Йокнапатофа. Поэтому сам он больше в церковь не ездил; теперь по воскресеньям в коляске сидела одна только Эллен с детьми, и потому мы теперь знали, что теперь по крайней мере никто не будет биться об заклад — ведь никто не мог сказать, настоящие это скачки или нет, потому что теперь, когда его лица не было, оставалось только совершенно непроницаемое лицо негра, на котором слегка поблескивали зубы, так что теперь мы никак не могли понять, что это — скачки или просто лошади понесли, а если где и было торжество, то лишь на лице в двенадцати милях отсюда, в Сатпеновой Сотне, на лице того, кому даже не нужно было ничего видеть или при сем присутствовать. Теперь негр, проезжая мимо чужой коляски, говорил с той упряжкой так же, как и со своей — бормотал что-то без слов, очевидно не нуждаясь в словах, на языке, на котором они объяснялись, когда спали в глине на том самом болоте, на языке, привезенном сюда из другого темного болота, где он их отыскал и откуда привез сюда — пыль, грохот, коляска Эллен стремглав подлетает к дверям церкви, женщины и дети с криком бросаются врассыпную, мужчины хватают под уздцы своих лошадей. А негр высаживает Эллен с детьми у дверей и отъезжает с коляской к коновязи и бьет лошадей за то, что они понесли; а когда однажды какому-то дураку вздумалось вмешаться, негр набросился на него с палкой и, оскалив зубы, буркнул: «Хозяин велел, я делаю. Говори с хозяином».
Да, от них. От них же самих. И на этот раз его остановил даже не священник. Его остановила Эллен. Наша тетя разговаривала с папой, и когда я вошла, тетя сказала: «Ступай играть», хотя даже если б я не могла ничего расслышать сквозь дверь, я могла бы повторить весь их разговор: «Твоя дочь, твоя родная дочь», — сказала тетя, а папа ей ответил: «Да. Она моя дочь. Когда она пожелает, чтобы я вмешался, она скажет мне об этом сама». Потому что в следующее воскресенье, когда Эллен вышла из парадных дверей с детьми, их ожидала не коляска, а фаэтон Эллен, запряженный старой смирной кобылой, которой она сама правила, и конюх, которого он купил, а не тот дикий негр. И Джудит, взглянув на фаэтон, поняла, что это значит, и завизжала; она визжала и брыкалась, когда ее несли обратно в дом и укладывали в постель. Нет, его при этом не было. Я даже не стану утверждать, будто за занавеской скрывалось торжествующее лицо. Вероятно, он удивился бы не меньше нас, потому что мы все поняли бы, что перед нами не просто детский каприз или даже истерика; что его лицо все время было в той коляске; что именно Джудит, шестилетняя девочка, подзуживала и подбивала этого негра пустить лошадей вскачь. Заметьте: не Генри, не мальчик, что уже само по себе было бы достаточно чудовищно, а именно девочка, Джудит. Я почувствовала это сразу, как только мы с папой в тот самый день вошли в эти ворота и по аллее направились к дому. Казалось, будто где-то в мирной тишине этого воскресного дня все еще существуют, длятся вопли этой девочки, теперь уже не как звук, а как нечто такое, что слышит кожа, что слышат волосы на голове. Но я вначале ничего не спросила. Мне тогда было всего четыре года; я сидела в повозке рядом с папой так же, как стояла между ним и тетей перед церковью в то первое воскресенье, когда меня нарядили и в первый раз повели знакомиться с моею сестрой, племянником и племянницей, сидела и смотрела на дом. Я, разумеется, бывала в нем и раньше, но даже и тогда, когда я, сколько помню, увидела его впервые, мне казалось, будто я уже знаю, как он выглядит, — совершенно так же мне казалось, будто я знала, как должны выглядеть Эллен и Джудит и Генри, прежде чем я увидела их в тот раз, который всегда вспоминается мне как первый. Нет, я даже и тогда ничего не спросила, я просто посмотрела на этот огромный тихий дом и сказала: «Папа, а в какой комнате лежит больная Джудит?» — со свойственной ребенку способностью спокойно принимать необъяснимое, хотя теперь я знаю, что даже тогда мне хотелось понять, что увидела Джудит, когда, выйдя из дверей, она нашла вместо коляски фаэтон и вместо дикого негра — ручного конюха; что именно она увидела в том фаэтоне, который всем остальным показался таким безобидным, или еще хуже, чего она недосчиталась, когда увидела фаэтон и завизжала. Да, был тихий мирный жаркий воскресный день, совсем как сегодня; я до сих пор помню полную тишину, царившую в этом доме, когда мы в него вошли, и по которой я сразу же поняла, что он отсутствует, хотя и не знала, что он сидит в виноградной беседке и пьет с Уошем Джонсом. Я лишь поняла, едва мы с папой переступили порог, что его там нет; словно ничуть не сомневалась, что ему вовсе незачем оставаться и созерцать свое торжество и что по сравнению со всем предстоящим это был просто пустяк, даже не заслуживающий нашего внимания. Да, эта тихая затененная комната, закрытые ставни, негритянка с веером, сидящая у постели, а на подушке белое лицо Джудит с камфарной повязкой на лбу — мне тогда показалось, будто она спит (весьма вероятно, это и было сном или могло быть названо сном), — и белое спокойное лицо Эллен, и слова папы: «Ступай поищи Генри и попроси его поиграть с тобой, Роза», и вот я стою за этой глухой дверью в этой тихой верхней прихожей, потому что боюсь из нее выйти, потому что я слышу, что воскресная тишина этого дома даже громче, чем гром, даже громче, чем торжествующий смех.
«Подумай о детях», — сказал папа.
«Подумать? — отвечала Эллен. — А я что делаю? Что еще я делаю бессонными ночами, как не думаю о них?» Ни папа, ни Эллен не сказали: «Вернись домой». Нет; это случилось до того, как вошло в моду для исправления своих ошибок поворачиваться к ним спиной и убегать. Всего только два тихих голоса за глухой дверью — как будто они всего лишь обсуждали что-нибудь напечатанное в журналах; а я, маленькая девочка, стою у этой двери, потому что боюсь там оставаться, но еще больше боюсь оттуда уйти, неподвижно стою у этой двери, словно стараясь слиться с темным деревом и сделаться невидимой, как хамелеон, стою, прислушиваясь к живому духу, к душе этого дома, ибо теперь в него вошла какая-то частица жизни и дыхания Эллен, а не только его самого, стою и дышу долгим приглушенным звуком победы и отчаяния, торжества и страха.
«Ты любишь этого...» — сказал папа.
«Папа», — отозвалась Эллен. И это было все. Но я тогда могла видеть ее лицо так же ясно, как папа, и оно было точно такое, как в коляске в то первое воскресенье, да и в остальные тоже. Потом вошла служанка и сказала, что наша повозка готова.
Да. От них же самих. Не от него, не от кого-либо другого, ведь и спасти их не мог бы никто, даже он сам. Ибо теперь он показал нам, почему это торжество не заслуживало его внимания. То есть он показал это Эллен, а не мне. Меня там не было; я уже шесть лет почти ни разу с ним не встречалась. Наша тетя уже уехала, и я вела папино хозяйство. Вероятно, раз в год мы с папой ездили туда обедать, и, может быть, раза четыре в год Эллен с детьми приезжала провести день у нас. Но только не он; сколько я помню, после свадьбы с Эллен он ни разу не переступил порог этого дома. Я тогда была молода, я была даже слишком молода и поэтому думала, что причина тому — какие-то упрямые укоры совести, чуть ли не раскаяние, даже и у него. Но теперь меня не проведешь. Теперь я знаю, что, коль скоро папа наделил его женой и тем самым респектабельностью, ему от папы ничего больше не требовалось, и потому даже простая благодарность, не говоря уже о приличиях, не могла заставить его поступиться своими развлечениями до такой степени, чтобы приехать на семейный обед к родственникам жены. Поэтому я виделась с ними очень редко. Мне теперь некогда было играть, даже если бы я когда-нибудь прежде имела к этому склонность. Я так никогда и не научилась играть и не видела причины учиться теперь, будь у меня даже на это время.
Прошло шесть лет; для Эллен это, конечно, не было тайной, ибо это, очевидно, продолжалось с тех самых пор, как он вбил последний гвоздь в стену своего дома; только теперь, в отличие от его холостяцкой поры, они привязывали свои упряжки и верховых лошадей и мулов в роще за конюшней, а потом шли лугом, так что из дома их не было видно. Ибо их все еще было очень много; казалось, словно бог или дьявол воспользовался его пороками, чтобы подобрать свидетелей тому, как действует лежащее на нас проклятье, не только из числа порядочных людей вроде нас самих, а из числа самых что ни на есть проходимцев и подонков общества, которые ни при каких иных обстоятельствах не посмели бы приблизиться к дому, даже и со стороны задворков. Да, Эллен с двумя детьми одни в этом доме, за двенадцать миль от города, а на конюшне четырехугольной рамкою лица, освещенные фонарем; с трех сторон белые, с четвертой — черные, а посередине борются два диких голых негра, борются не так, как белые, по правилам и с оружием, а так, как дерутся негры, стараясь побыстрее и посильнее покалечить друг друга; Эллен об этом знала или думала, что знает; дело было не в этом. Это она приняла — не примирилась, а приняла, — словно порой наступает минута, когда человек может принять оскорбление чуть ли даже не с благодарностью, ибо он может сказать себе: слава богу, это все, теперь я па крайней мере все об этом знаю — думая так, все еще цепляясь за эту мысль, она в тот вечер вбежала в конюшню, те самые люди, которые прокрались туда по задворкам, расступились перед ней, ибо в них еще сохранились какие-то остатки благопристойности, и Эллен увидела не двух диких черных зверей, как ожидала, а черного и белого — обнаженные до пояса, они пытались выдавить друг другу глаза, словно оба были не только одного цвета, но и в равной мере заросли шерстью. Да. По-видимому, в некоторых случаях, возможно к концу вечера, в качестве пышного финала или просто заранее придумав это дьявольское действо для утверждения своей власти и превосходства, он сам выходил на арену с одним из негров. Да. Именно это и увидела Эллен: ее муж, отец ее детей, стоял, задыхаясь, обнаженный до пояса и окровавленный, а у ног его лежал, очевидно, только что упавший негр, тоже весь в крови, только на негре кровь выглядела как сало или пот, — Эллен сбежала с холма, на котором стоял дом, с непокрытой головой и как раз успела услышать этот звук, этот крик; она слышала его, еще когда бежала в темноте и еще до того, как зрители заметили ее присутствие, слышала даже до того, как один из зрителей сказал: «Это лошадь», потом: «Это женщина», потом: «О господи, это ребенок», — она вбежала в конюшню, зрители расступились, и она увидела, как Генри с криком вырывается из рук державших его негров и как его тошнит, — не останавливаясь и даже не глядя на лица тех, кто от нее отпрянул, она опустилась на колени в навоз на полу конюшни, чтобы поднять Генри, не глядя и на Генри, а только на него, а он стоял, оскалив зубы, которые теперь виднелись даже из-под бороды, и другой негр мешком стирал с него кровь. «Я знаю, что вы извините нас, господа», — сказала Эллен. Но они уже уходили, и черномазые и белые, потихоньку прокрадываясь наружу, как прежде прокрадывались внутрь, и Эллен теперь не смотрела и на них, она стояла на коленях в грязи, Генри с плачем за нее цеплялся, а он все еще стоял там, между тем как третий негр тыкал в него не то рубашкой, не то сюртуком, словно этот сюртук был палкой, а он — змеей в клетке. «Где Джудит, Томас?» — спросила Эллен.