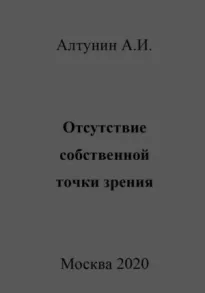Авессалом, Авессалом!
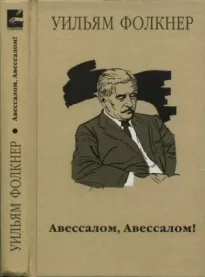
- Автор: Уильям Фолкнер
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2001
Читать книгу "Авессалом, Авессалом!"
— А теперь, — сказал Шрив, — поговорим о любви. — Но ему не нужно было говорить и это, равно как не нужно было объяснять, кто разумеется под словом «он», ибо ни один из них ни о чем другом не думал; через все случившееся в прошлом надо было пройти; и, кроме них, пройти через это было некому — все равно как нельзя раздуть костер, не разворошив листья. Поэтому ни для того, ни для другого не имело значения, кто из них будет говорить — ведь чтобы раз и навсегда через все это пройти, мало только говорить, тут важно одновременно и говорить и слушать, важна счастливая возможность, не дожидаясь требований или просьб, уже заранее простить и забыть ошибки друг друга, ошибки, которые каждый из них совершит не только создавая этот призрак, о котором они вели разговор (или, вернее, в которого сами теперь превратились), но и выслушивая, просеивая, отбрасывая все ложное и оставляя все, что казалось им верным или соответствовало их представлениям, чтобы перейти к любви, в которой могли встретиться противоречия и парадоксы, но зато не было ни лжи, ни ошибок. — А теперь о любви. Он наверняка знал о ней все еще прежде, чем ее увидел: знал, какова она из себя, как проводит время в уединении провинциального женского мирка, о котором даже близким родственникам-мужчинам не полагалось слишком много знать; чтобы узнать об этом, ему даже не потребовалось задать ни одного вопроса. Господи, ведь вокруг него и так все клокотало и кипело. Сколько вечеров провел Генри, перенимая у него искусство прохлаждаться в спальне, облачившись в халат и домашние туфли, какие носят женщины; в легком, но безошибочном аромате духов, какие употребляют женщины; курить сигару — точь-в-точь как могла бы курить ее женщина, однако с такой небрежной, убийственной самоуверенностью, что лишь самый отъявленный смельчак мог бы отважиться на такое сравнение (причем он нисколько не пытался учить, поучать, строить из себя ментора — а впрочем, может, и пытался; кто знает, сколько раз, всматриваясь в лицо Генри, он думал — не так если пренебречь той примесью в крови, которой нет у меня, передо мной мой череп, мой лоб, глазные впадины, лицевой угол, подбородок, и за всем скрываются отчасти даже мои мысли; и все это он, в свою очередь, мог бы увидеть на моем лице, умей он смотреть так, как умею я а несколько иначе передо мною, лишь слегка разбавленное чуждой кровью, примесь которой потребовалась для его появления на свет, лицо человека, создавшего нас обоих из той непроницаемой зыбкой тьмы, что люди называют будущим; и вот сейчас, сию минуту, железным усилием воли и страстным желанием, я сквозь эту чуждую мне кровь увижу — не лицо брата, о существовании которого я ничего не знал и потому спокойно без него обходился, а лицо моего отца, чье отсутствие отбрасывает тень, от которой мой бессмертный дух никак не может уйти... когда, в какие минуты он это думал, наблюдал этот пыл, в котором не было ни капли униженья, это смиренье паче гордости и беззаветную отдачу всей души — ведь бессознательное подражание одежде, манере вести себя и говорить было всего лишь внешней его оболочкой, наблюдал и думал чего только не мог бы я при желании сделать с этой податливою плотью, с этой плотью, кровью и душою, что вышли из того же источника, что и мои, но выросли в довольстве, мире и покое, под ровным, пусть даже и унылым светом солнца; тогда как те, что передал он мне, росли среди обиды, ненависти, непрощенья, в глубокой тени; я мог бы вылепить из этой податливой и пылкой глины то, чего не создал и родной отец; какие зачатки добра могут, должны быть и есть в этой крови, и нет никого, кто смог бы ваять мой кусок глины и лепить из него, пока еще не поздно, в какие минуты он говорил себе, что это чепуха, что этого никак не может быть, что такие совпадения встречаются лишь в книгах, и — томный фаталист, неисправимый отшельник — думал Проклятый олух. Как мне от него отделаться? но тут же голос, другой голос возражал: Нет, ты вовсе этого не думаешь, а он ему в ответ: И вправду не думаю. Но все равно он олух); сколько раз, днем или вечером, когда они ездили верхом (Генри и тут ему подражал, хотя был более искусным наездником; возможно, лишенный того, что Бон назвал бы изяществом, он вырос в седле, и ездить верхом было для него так же естественно, как ходить пешком; он мог ездить на чем угодно, куда угодно и как угодно) и он видел, что барахтается и тонет в потоке веселой бессмысленной болтовни Генри, которая переносила их (всех троих — его, Генри и сестру, которой он никогда не видел и, может быть, не имел ни малейшего желания увидеть) в мир, подобный волшебной сказке, где ничего, кроме них, не существует; когда он скакал верхом рядом с Генри и слушал, причем ему даже незачем было ни задавать вопросы, ни как-либо вызывать на еще большую откровенность этого юнца, который даже не подозревал, что мужчина, скачущий рядом с ним, может быть, его брат; который всякий раз, как дыхание его касалось его голосовых связок, повторял Отныне наш с сестрою дом — твой дом, наша с сестрою жизнь — твоя жизнь; у него (у Бона) возникал — а может, вовсе и не возникал — вопрос: допустим, все произошло наоборот, и незнакомец — это Генри, а наследник — он сам, но все равно он знает то, что сейчас лишь подозревает, — так стал бы он тогда рассуждать так, как сейчас? и в конце концов он (Бон) соглашался, в конце концов говорил: «Ладно. Я поеду к тебе домой на рождество», — совсем не для того, чтобы увидеть третьего обитателя сочиненной Генри волшебной сказки, не для того, чтобы увидеть сестру — ведь он ни разу о ней не вспомнил, он только слушал, что Генри про нее говорил, а сам при этом думал Наконец-то я увижу его, человека, которого — судя по тому, как меня воспитывали, — я никогда не должен был надеяться увидеть и без которого я даже научился жить; быть может, он даже представлял себе, как войдет в этот дом и увидит человека, который его породил, и тут ему все станет ясно; ибо наступит минута озарения, когда они безошибочно друг друга узнают, и ему все станет ясно — наверное, раз и навсегда — быть может, он думал Это все, чего я хочу. Пусть он меня даже не признает, я сразу дам ему понять, что этого совсем не надо делать, что я этого совсем не жду, что меня это нисколько не обидит, а он в свою очередь сразу же даст понять мне, что я — его сын, думал, быть может, опять с тем выражением, которое ты мог бы даже назвать улыбкой, но которое было совсем не улыбкой, а чем-то таким, во что даже и олуху не следовало соваться: Во всяком случае, я сын своей матери: я тоже, кажется, не знаю, чего хочу. Однако он совершенно точно знал, чего он хочет — только того, чтобы это было сказано, физического соприкосновения, хотя бы и незаметного, тайного, живого прикосновения плоти, еще до его появления на свет согретой тою же кровью, которую она передала ему, чтобы согреть его плоть, и чтобы он в свою очередь тоже передал ее по наследству, и чтоб она, горячая и быстрая, бежала бы по жилам, когда умрет та, первая, а затем и его собственная плоть. И вот настало рождество, и они с Генри поехали за сорок миль в Сатпенову Сотню, и Генри все говорил, и его дыхание, словно надувая легкий воздушный шар, расцвечивало радужным сиянием сказки пустоту, в которой они существовали, жили, быть может, даже двигались, оставаясь бесплотными; все трое — он сам, его друг и сестра, которой друг никогда не видел и (хотя Генри этого не знал) о которой ни разу не подумал; а только слушал про нее как бы сквозь более важные мысли, и Генри, наверно, даже не замечал, что чем больше они приближались к дому, тем меньше Бон говорил, высказывал свое мнение о чем бы то ни было, а может, даже (и Генри, разумеется, не знал и этого) меньше слушал. И вот он вошел в дом, и возможно, если бы кто-нибудь посмотрел на него, он увидел бы на его лице выражение, очень похожее на выражение лица Генри — смиренную, хотя и гордую готовность к полной, безоглядной отдаче, и, возможно, он даже говорил себе Я не только не знаю, чего хочу, но я еще, очевидно, гораздо моложе, чем сам думал; и встретился лицом к лицу с тем человеком, который, возможно, был его отцом, и не случилось ровно ничего — ни потрясения, ни жаркого соприкосновенья плоти, которому и речь, далеко не столь стремительная, и то не может помешать, — ничего. И он провел там десять дней — не просто таинственный незнакомец, сибарит, стальной клинок в клетчатых шелковых ножнах, которому Генри начал подражать еще в университете, а еще и произведение искусства, некий шаблон, образец хорошего тона и манер, за каковой миссис Сатпен (как говорил твой отец) его принимала, настаивала (разве твой отец этого не говорил?), чтобы он им был (и в качестве такового купила бы, расплатившись за него даже своей родною дочерью, Джудит, если бы среди них четверых не нашлось другого покупщика — или твой отец этого не говорил?) и каковым он для нее и оставался, покуда не исчез, забрав с собою Генри, после чего она больше никогда его не видела, а война, лишения, и горе, и скверная пища до такой степени заполнили ее дни, что вскоре она, наверное, не могла даже вспомнить, что когда-то о нем позабыла. (А девушка, сестра, девственница — о боже, кто может знать, что ей привиделось в тот вечер, когда они подъезжали к дому по аллее, из какой сказочной страны явилась эта задумчивая девичья греза, этот призрак, облеченный не в грубые железные латы, а в тонкие шелка, этот трагический тридцатилетний Ланселот[76], десятью годами ее старше; какою жизнью и какими наслажденьями был утомлен и пресыщен он, созданный в ее воображении письмами Генри.) Но вот наступил день отъезда, а ему еще не подали никакого знака; они с Генри уехали, а знака все не было: при расставанье он прочел на этом лице не больше, чем в тот день, когда впервые его увидел; на этом лице, если б не борода, он мог бы разглядеть (или поверить, что разглядел) истину, и тогда ему не нужен был бы знак; никакого знака не подали ему глаза, что ясно видели его лицо: ведь у него не было бороды, чтобы за ней укрыться, — мог бы разглядеть истину, если б она в этих глазах была, однако в них не мелькнуло ни малейшей искры, и потому он понял, что истина открылась тому в его лице; он понял, что тот, другой, увидел ее с такой же очевидностью, как Генри в следующий сочельник, войдя в библиотеку, убедится, что отец не лжет — убедится по одному тому, что отец ничего не скажет, ничего не сделает. Может, он даже подумал, подивился: уж не нарочно ли тот приклеил себе бороду, чтобы укрыться за нею в этот самый день, а если это так, то почему же? почему? Но почему же? почему? думал он; ведь он хотел так мало, ведь он бы сразу понял, что тот, другой, хочет подать ему сигнал втайне; ведь он охотно, с радостью хранил бы эту тайну, пусть даже и не понимая почему; и в голове его мелькала мысль О боже, я ведь молод, молод, а я совсем этого не знал; мне даже не сказали, что я так молод; он был полон отчаяния и стыда, какие ощущаешь при виде физической слабости своего отца, и думал Эту слабость должен был выказать я, я, а не он, в чьих жилах текла та же кровь, что и в моих, еще до того, как мою кровь испортило, запятнало нечто такое в крови моей матери, чего он не мог перенести... Подожди! — воскликнул Шрив, хотя Квентин ничего не сказал; просто расслабленная, все еще согбенная фигура Квентина зашевелилась, начала выпрямляться, как будто он собирался заговорить, и потому, прежде чем он успел сказать хоть слово, Шрив уже произнес: — Подожди. Подожди. Ведь он на нее даже и не взглянул. О, разумеется, он ее видел, у него были для этого все возможности, он при всем желании не мог от этого уклониться — миссис Сатпен уж наверняка позаботилась, чтобы эти десять дней они то и дело как бы случайно оказывались наедине в библиотеке, в гостиной, в коляске на вечерних прогулках — все было задумано, подготовлено и разыграно подобно военным кампаниям умерших генералов из учебников, задумано еще три месяца назад, когда миссис Сатпен прочла первое письмо Генри, в котором упоминалось имя Бона — пока, возможно, даже Джудит стала чувствовать себя одной из двух золотых рыбок в аквариуме; он разговаривал, конечно, и с ней, хотя не совсем понятно, о чем он мог бы говорить с деревенской девицей, едва ли прежде встречавшей мужчину — молодого или старого, от которого бы рано или поздно не пахнуло навозом; он разговаривал с нею, как разговаривал бы со старухой, сидя с нею на золоченых стульях в гостиной, с той лишь разницей, что в первом случае ему приходилось все время поддерживать разговор, а во втором он не мог даже сам спастись бегством и вынужден был ждать прихода Генри, который бы увел его с собой. Возможно, к тому времени он наконец удосужился о ней подумать; наверное, это было тогда, когда он говорил себе не может быть, чтоб это было так; если б это было так, он не мог бы каждый день на меня смотреть и не подать мне никакого знака он даже говорил себе С ней все пойдет легко как бывает за ужином, когда оставишь на столе шампанское, а сам идешь к буфету за виски, и тебе вдруг случайно попадается поднос с чашей лимонада, и вот ты смотришь на лимонад и говоришь себе: Он тоже пойдет легко, да только кому он нужен?.. Что ты на это скажешь?