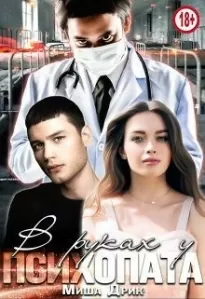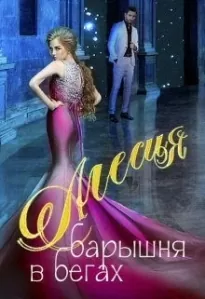Бомбей

- Автор: Гайто Газданов
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Бомбей"
* * *
В самом начале, непосредственно после приезда в Бомбей, меня несколько удивила, мне была непривычна традиционность питерсоновского быта, необходимость переодеваться несколько раз в день, казалось странным, что вечером непременно нужно быть в смокинге, когда проще было бы надеть рубашку с короткими рукавами — настолько было жарко; но я освоился с этим с прежней, давно забытой легкостью. Я с удовольствием отказался от рациональных взглядов на одежду, и точно так же мне теперь казались естественными разговоры, в которых тщательно избегались щекотливые вопросы, сложные проблемы и уж совершенно безусловно — какое бы то ни было любопытство личного порядка. И вместо парижских ночных бесед с соотечественниками, где речь шла, во всяком случае, не о погоде, а о том — правда ли, что ваше отношение к такой-то позволяет предполагать?., или — считаете ли вы себя способным к воровству? или — помните ли вы, что любовница Достоевского, впоследствии жена Розанова[7], которая… — все, что так коробило меня всегда, — вместо этого были такие идеально прозрачные, проникнутые отсутствием какой-либо дурной мысли, такие безобидные слова о скачках, о жаре, о побережье Индийского океана, что я действительно задавал себе иногда вопрос: можно ли так прожить всю жизнь? Однако у каждого из моих бомбейских собеседников была своя собственная жизнь, и — как мне пришлось случайно убедиться в этом несколько раз — не менее сложная и заключающая в себе такие же темные и иногда ужасные вещи, только об этом не полагалось говорить ни при каких обстоятельствах. Это предавалось немедленному забвению и уничтожению так, будто ничего не было, — и в этом постоянном разрушительном усилии, в этом ежедневном отречении было, конечно, неизмеримо больше мужества и достоинства, чем в истерической и навязчивой исповеди. Все личные поступки были облечены почти непроницаемой тайной.
Если бы я попытался с самого же начала подойти ко всему этому с той аналитической и размашистой бесцеремонностью, которая мне была свойственна, меня бы ждали, конечно, разочарования. Но у меня не появилось даже отдаленного желания это сделать, и через некоторое время мне стало казаться, что я точно вырос в этой среде. Тогда же я подумал, что для этой легкости приспособления были некоторые основания, потому что детство мое, о котором я недаром все чаще и чаще вспоминал в Бомбее, проходило в такой же обстановке сдержанности, полного отсутствия бурных выражений чувств, в той же холодноватой прозрачности. К тому ж ни с Питерсоном, ни с Грином я не мог разговаривать, как с равными, — оба по возрасту годились мне в отцы.
Единственным человеком, который вызывал у меня первое время легкое раздражение, — но потом и оно прошло, — был молодой англичанин, служивший в бюро Питерсона, с которым мне пришлось встретиться несколько раз. Он был ярым поклонником Парижа, выписывал оттуда вечернюю газету и «La vie parisienne»[8]. Он однажды провел в Париже два дня, побывал на Монмартре, в Казино де Пари и Баль Табарэн и был ослеплен раз навсегда их грошовым великолепием. Он искренне верил тому, что писалось в газете, всем этим триумфам, роскоши, льстивым газетным анекдотам о знаменитостях, и ему казалось, что Париж — город вечного праздника, гениальных артистов и лучших в мире постановок. Я пытался объяснить ему всю печальную неверность такого представления, но это было совершенно безнадежно. Он был одушевлен стремлением к роскошной и праздной жизни, и Париж ему казался единственным в мире городом, только для этого и существующим. После первых бесплодных попыток рассеять эту иллюзию я отказался от невозможной задачи. Вне этого он был милым человеком и хорошим товарищем и, кроме того, прекрасно плавал. Он же однажды показал мне в купальне двух виртуозов по прыжкам с трамплина, это были два брата; старшему было шесть, младшему пять лет. Оба делали самые головоломные вещи и плавали, как рыбы; я неоднократно любовался ими, сидя рядом с Питерсоном, который повторял: хорошие мальчики, хорошие.
В течение некоторого времени я почти прекратил свои самостоятельные поездки по городу, предпочитая сидеть в библиотеке, в кресле, стоявшем рядом с полкой классических авторов, над которой мистер Питерсон приклеил длинную пластинку из блестящего белого картона с надписью, которая мне очень понравилась своей наивной торжественностью: «Неге the dead speak to the living»[9].
Я забыл его спросить, откуда он ее взял. Но так же, как за все пребывание в Индии я с величайшим усилием мог написать только одно письмо, так же я не мог как следует сосредоточиться на том, что читал. Это объяснялось отчасти жарой, отчасти, я думаю, желанием полного душевного отдыха, который, конечно, было легче найти в чтении авантюрных романов, не требующем ни усилия мысли, ни даже напряженного внимания, и только просто по профессиональной привычке я не мог не отметить в роскошном «Графе Монте-Кристо», великолепию которого, впрочем, несколько вредила явная, хотя и непредвиденная, по-видимому, автором, глуповатость героя, — я не мог не заметить, что старый слуга, Барруа, выпивший по ошибке яд, который для него не предназначался, и тут же умерший в страшных мучениях, через несколько страниц после этого окончательного, казалось бы, события, вновь «вошел в комнату, держа в руках поднос» так, точно ничего не случилось[10]. У Питерсона оказались даже «Похождения Рокамболя»[11] и вообще много книг — но преимущественно прошлого столетия — такого порядка, и я любовался той очевидной, счастливой легкостью, с которой они были написаны, все эти королевы Марго и короли Генрихи и Людовики. Но на третий или четвертый день такое чтение начинало все-таки раздражать, — тогда я принимался за путешествия или рассказы о жизни животных.
Но все же иногда, когда и это мне приедалось, я ехал в город; и однажды в начале такой прогулки встретил Рабиновича, которого не видел некоторое время. Он вышел из своего бюро на несколько минут, не помню, по какому делу. Он предложил мне отправиться вместе с ним на следующий вечер в гости к хозяйке французского пансиона, которая должна была праздновать свои именины. Я отговаривался тем, что неудобно идти, не будучи не только приглашенным, но даже знакомым. — Это пустяки, — сказал Рабинович, — я ей протелефонирую. К тому же там будут русские.
Я не имел никакого представления об этом французском пансионе. Он оказался второго или даже третьего сорта, — я успел отвыкнуть от такой обстановки. На столике в гостиной лежал целый комплект программ «Moulin Rouge»[12] совершенно незапамятных времен, примерно девятьсот третьего — девятьсот четвертого годов. Сама хозяйка пансиона, мадам Карено, очень немолодая женщина с накрашенным лицом и немного жалобными глазами, была одета в совершенно особенного покроя платье, состоявшее из многих, не похожих друг на друга и разлетающихся слоев очень тонкой черной материи; и каблуки туфель ее меня поразили своей извилистостью и высотой. Тут же был ее муж, идеально лысый человек, незначительного вида, худощавый и желтоватый. Рядом с ним я увидел русскую чету, совершенно меня поразившую. Впрочем, мужа я заметил как-то на улице, недели за три до этого — и так засмотрелся на него, что едва не въехал в тротуар. Для Бомбея он был, действительно, совершенно необычен. У него был вид старого интеллигента, классический и не нарушенный никакой неканонической подробностью: седая бородка, седые усики и пенсне. Но на нем были тропический шлем, рубашка с короткими рукавами и штаны до колен; и этот, в общем, нормальный костюм на нем был нелеп до невероятности. Он представился: его звали Серафим Иванович, Серафим Иванович Васильков. Его жена была похожа на постаревшую нигилистку — со стрижеными прямыми волосами, с маленькими глазами неожиданно детского, голубого цвета. Она была в зеленом платье. На Серафиме Ивановиче в тот вечер был потертый синий костюм с узкими внизу брюками. Больше не было никого. Разговор происходил по-французски, хотя ни Серафим Иванович, ни его жена не знали этого языка; но Рабинович говорил довольно бойко, хотя и оперируя той же самой гаммой интонаций, которая ему служила для всех языков, — так что если бы слушать его речи из соседней комнаты, то можно было только безошибочно сказать, что это говорит Рабинович, но на каком языке, об этом никак нельзя было судить. Англичанин бы сказал, что это не по-английски, француз — не по-французски, русский тоже не узнал бы своего языка, и все ошиблись бы, потому что это мог быть в одинаковой степени и английский, и французский, и русский. Когда я его тут же спросил вполголоса, где он научился французскому языку, он быстро пожал плечами и сказал естественнейшим голосом: — Как где? В Одессе, — точно в Одессе было невозможно жить, не зная французского языка.
Мадам Карено обращалась чаще всего ко мне, потому что Рабинович сказал ей, что я парижанин. Она уехала из Парижа без малого тридцать лет тому назад, когда была совсем маленькой, по ее словам. Чем больше я всматривался в нее, тем больше убеждался, что в этой женщине было нечто ненормальное. Я никак не мог, однако, понять, в чем дело. Она совсем не производила дурного впечатления, наоборот, в ней была некоторая беззащитная привлекательность, но что-то было не так. Я никак не мог, однако, понять, в чем дело. Наконец ее муж поднялся из-за стола и сказал, что хочет мне передать одну важную вещь. Я вышел вместе с ним в другую комнату. Он был явно смущен, череп его покраснел, он некстати посмеивался. — Вот… да… видите ли… — он все не знал, как начать. Потом вдруг, решившись, он сказал, что я, по-видимому, симпатичен его жене и что я мог бы… — Я продолжаю не понимать, — сказал я. Он тогда наклонился ко мне и сказал, что я мог бы попросить его жену выйти в голом виде. — Что? — спросил я в совершенном изумлении. Он прибавил, что это ей доставит удовольствие и что я как молодой человек… — Нет, это невероятно, — сказал я. — Я знаю, я знаю, — пробормотал он в совершенном замешательстве.
Я посмотрел еще раз на его печальное лицо; и вместо того, чтобы испытать отвращение к этому человеку, почувствовал к нему глубокую жалость. У него застыло на лице искательно-растерянное выражение. — Попросите ко мне на минуту Рабиновича.
Он облегченно вздохнул, пожал мне зачем-то руку и вышел. В гостиной в это время мадам Карено играла в карты с Васильковым. Рабинович явился с расстроенным лицом. — Слушайте, что это за история? — сказал я ему. — Я знаю, что вы мне скажете, — ответил Рабинович. — Это же несчастная женщина. У нее было двое детей, они умерли, когда были маленькие. Вы видели ее мужа? — Да, но все-таки… — Слушайте, — сказал Рабинович убедительным голосом, — что, у вас глаза заболят, что ли? Я тоже ее видел, и еще некоторые видели — ну, и что из этого? Она же больная, вы понимаете? И я вам скажу правду, что она на редкость хорошая женщина. Когда была больна моя маленькая Рахиль, вы бы видели, как она за ней ухаживала. Моя жена тоже знает эту слабость мадам Карено и знает, что я ее видел. Доставьте ей это удовольствие… — Наступила пауза. Рабинович покачал головой и потом прибавил: — Я вам больше скажу. Я вам могу дать слово, что это совершенно порядочная женщина. К тому же мы будем с вами вдвоем.