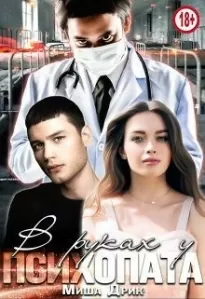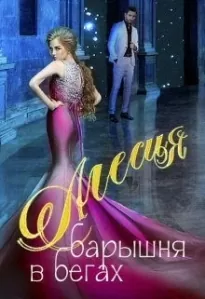Бомбей

- Автор: Гайто Газданов
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Бомбей"
Тогда я согласился. Мадам Карено вышла сначала абсолютно голая, в черных туфельках и с черным бантом на шее. Потом она скрылась за портьерой и через несколько секунд снова появилась, уже без банта, но вся закутанная в гигантскую красную шаль, которую она внезапно распахнула, остановившись в картинной позе. У нее было очень белое и полное, но довольно крепкое еще тело. Затем она ушла и вернулась уже в гостиную, вновь в своем многослойном платье. В первом часу ночи мы уехали.
Потом я был у мадам Карено еще несколько раз и подолгу разговаривал с ней. Она была действительно хорошей женщиной — доброй, доверчивой и в самом деле совершенно порядочной. Но мечтой всей ее жизни было стать кафешантанной дивой. Она вряд ли даже ясно представляла себе, что это такое, ее прельщала, главным образом, декоративная сторона: поклонники, кулисы, и все это как-то платонически. Когда я попытался доказать ей, что она не подходила для такой жизни, она замахала на меня руками. Что вы, что вы! Именно такую жизнь ей и следовало вести. К сожалению, обстоятельства не позволили ей это сделать. Ее муж был болен особенной формой туберкулеза и не был в состоянии работать, — не могла же она его оставить? У нее были дети, — не могла же она их оставить? В Индии она сначала была гувернанткой, потом, вот, открыла пансион, в котором останавливались случайные люди. Она мечтала о Париже, очень хотела поехать во Францию, но не на кого оставить пансион, и, кроме того, это так дорого стоит. Я уходил от нее с чувством сожаления и неловкости, точно был в чем-то виноват перед ней, — может быть, тем, что совсем недавно приехал из Парижа и через некоторое время поеду обратно.
Затем я ближе узнал и Васильковых. Марья Даниловна боготворила своего мужа и, как множество жен, считала его самым умным, самым красивым и самым лучшим в мире, — о нем вообще говорилось только в превосходной степени. Она приехала к нему в Индию из России, двумя годами позже него. Она проехала через Кавказ, Персию и Афганистан, подвергаясь лишениям и опасностям, для этого нужна была исключительная личная смелость и сильнейшее желание добраться до Серафима Ивановича; но самым удивительным было то, что она довезла до Бомбея самовар, средних размеров обыкновенный тульский самовар. Серафим Иванович служил в каком-то бюро, я до сих пор не понимаю, как это ему удавалось делать, он почти не знал по-английски. Марья Даниловна помогала мадам Карено, — и так они жили вдвоем в Бомбее. У них не было родственников, почти не было знакомых, и уже в преклонном возрасте оба существовали в этом двойном одиночестве здесь, в городе, где все было им идеально чуждо и далеко.
Однако у Серафима Ивановича и Марьи Даниловны была одна спасительная отдушина: каждый вечер Серафим Иванович писал дневник своей жизни, затем читал написанное Марье Даниловне и аккуратно переплетал все это в большие тетради с тем, чтобы потом опубликовать. Он писал, кроме того, рассказы, повести и романы. Я несколько раз слушал его чтение и следил с невольной улыбкой за восторженным лицом Марьи Даниловны.
За многие годы литературной жизни, посещая бесчисленные собрания, я привык слушать самое разнообразное чтение. Я слышал скороговорочное бормотанье совершенно незначительных произведений, и длиннейшие отрывки из бессодержательных романов, и некоторых авторов, просто плохо владевших русским языком и писавших на полуукраинском-полуеврейском наречии; я слышал бесконечное множество разнообразных стихотворений, иногда даже со звукоподражательными эффектами, вроде завывания ветра или шума дождя, — и длинная галерея графоманов сохранилась в моей памяти. Эта незаменимая тренировка позволяла мне, в конце концов, выслушивать все, что угодно, и в то время, как мои соседи ерзали и нервничали в особенно спорных, по их мнению, местах, я оставался совершенно спокоен. А, вместе с тем, мне приходилось присутствовать на выступлениях редкой оригинальности, вроде того, когда сидевший неподалеку от меня человек простого вида во время диспута об аграрном вопросе вдруг вскочил и закричал тонким голосом: — Я не могу терпеть, когда за крестьян царапаются! — и тотчас ушел. Я никогда не мог понять смысла, который он хотел придать этой фразе. В другой раз, на лекции одного критика, отличавшегося очень своеобразными взглядами на русскую литературу — он был независимый, смелый и глупый человек, — и, в частности, отрицавшего за Достоевским почти все достоинства, в зале раздался неумелый, но тщательный свист, и выяснилось, что свистел приличнейший человек, приват-доцент, очень немолодой мужчина с причудливо очерченной лысиной, так что издали казалось, что голова его покрыта зачем-то сероватым кружевом странного рисунка, специалист по Византии, богоискательству и тайникам души; сам он говорил вещи преимущественно возвышенные, актерски-адвокатским задушевным голосом и с надрывом, употребляя такие слова, как «юдоль», «ипостась», «искус», «прообраз».
Чтение Серафима Ивановича я слушал с чрезвычайной легкостью. Я мог заметить тогда же, что все его невольные странствия и приключения ни в какой степени не отразились на нем. Он принадлежал к первым годам столетия, к передовой русской провинции того времени и таким и остался. Писал он просто, к сожалению, чисто беллетристического дара у него, по-видимому, не было, так же, как не было разборчивости в выражениях; у него фигурировали и свинцовые облака, и злополучное майское утро, и золотые лучи солнца. Но у него была известная бойкость изложения, кроме того, он хорошо знал русский язык и мог бы, конечно, с успехом быть журналистом или редактором небольшой еженедельной газеты. К несчастью, в Бомбее русской прессы не существовало, а в остальных многочисленных газетах и журналах — в Париже, Праге, Шанхае, Риге — его произведений не печатали, потому что у него не было никаких личных знакомств или связей. Он был, однако, настолько неиспорчен, что это объяснение неуспеха не приходило ему в голову, и когда я высказал ему свои соображения, он был очень удивлен и огорчен. Он никогда не сталкивался с газетной и литературной средой и имел о ней такие идиллические представления, что мне не хотелось ему объяснять, как обстояло дело в действительности.
Но была все-таки во всем, что он писал, непритворная и неаффектированная печаль. Он не делал из этого литературного приема или profession de foi[13], вроде профессионально скорбящих и годами рыдающих писателей, благополучно существующих на гонорары, получаемые за эти платные сокрушения, — с сочувствующими женами и плохо поддающимся лечению геморроем. Печаль Серафима Ивановича была другого порядка, природного — как русский пейзаж, — говорил он сам. Она же слышалась в его голосе, когда он, аккомпанируя на гитаре, пел стариннейшие романсы:
Забыты нежные лобзанья,
Уснула страсть, прошла любовь…
Когда я пришел к нему в третий раз, он прочел мне рассказ, который назывался «Белые призраки». В нем рассказывалось о крестьянине, который замерзал в степи, и ему все казалось, что его окружают белые, почти безлицые, полупрозрачные и клубящиеся призраки. Ему удалось добраться до ближайшего селения, но на отмороженной ноге началась гангрена. И, умирая в душной избе, он задыхался от холода, ему казалось, что он окружен снежной пустыней, в которой движутся эти клубящиеся, исчезающие призраки, и что он один, совершенно один на всем свете.
Был, как всегда, раскаленный бомбейский вечер, мерно шумел вентилятор, капли пота собирались на неподвижном, сосредоточенном лице Марьи Даниловны, которая слушала рассказ с напряженным вниманием. Рассказ, технически неудачный, был, по-видимому, очень хорош, потому что я с неожиданной силой вдруг почувствовал тогда жалость к Серафиму Ивановичу — к трогательному старенькому его лицу, седой бородке, пенсне; и я, не отрываясь, смотрел на него, с печальным и необъяснимым исступлением.
На следующий день Серафим Иванович заболел: он жаловался на резкие боли в кишечнике. Врачи, как почти всегда, не умели ни определить, ни лечить его болезнь, и со страшной быстротой, характерной для тропического климата, Серафим Иванович в три дня «сгорел», как сказала Марья Даниловна. Его похоронили, неглубоко зарыв в беспощадно-жестокую и выжженую красную землю; в то утро зной был еще раскаленнее, еще невыносимее, чем всегда. К Марье Даниловне было страшно подходить, и я, подобно другим, испытал это животное чувство страха, похожее, по-видимому, на состояние собаки, ощущающей близкое присутствие смерти в еще живом человеке, — смерти, тень которой не сходила с лица Марьи Даниловны. Я видел войну, видел много умирающих, присутствовал на нескольких агониях, — но никогда не испытывал такого страха.
Когда я вернулся домой и вошел в библиотеку, то знакомая надпись «Неге the dead speak to the living» еще раз напомнила мне о Серафиме Ивановиче, и я впервые подумал о том, как будет жить Марья Даниловна, у которой не осталось буквально никого и ничего на свете, ничего, кроме сознания своего смертельного одиночества. Прошел месяц, я видел ее два раза — с тем же остановившимся выражением беспощадных ее глаз, от которых я тотчас же отводил взгляд. Потом однажды утром мне позвонил Рабинович, который сказал, что Марья Даниловна ночью умерла. Я поехал к мадам Карено, которая объяснила мне, что Марья Даниловна с вечера жаловалась на недомогание, потом вошла в свою комнату, легла на кровать, лицом вниз, и больше не шевельнулась. Я вошел к ней; она лежала, положив руку под голову, и на полном сгибе ее пухлого неподвижного локтя уже появилось черное овальное пятно. Она была в затрапезном своем, запачканном платье, сшитом в Баку, у кровати стояли ее очень стоптанные, сиротливые туфли; и эта ужасная ее бедность, теперь совершенно беззащитная, произвела такое впечатление на стоявшего рядом со мной Рабиновича, что слезы, не останавливаясь, катились по его смуглому лицу.
Ее нельзя было похоронить рядом с мужем, их могилы на армяно-григорианском кладбище были отделены друг от друга еще одной, в которую опустили совершенно чужого армянина из Персии, внезапно умершего в день своего приезда в Бомбей от припадка грудной жабы и чье случайное существование было таким непостижимым образом соединено с этими двумя смертями. — Вам еще не так, — сказал мне Рабинович, — все люди братья, — забываясь, бормотал он, — но вы еще верите в загробную жизнь, а у нас, евреев, нет даже этого утешения. — Я посмотрел вокруг — на пыльную, выжженную зелень, взглянул наверх — и слезящимися от солнца глазами увидел огромное и пустое, розово-синее небо. — Вы ошибаетесь, — сказал я, — я, к сожалению, не верю в Бога, и у меня так же нет утешения, как и у вас.