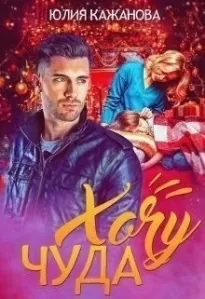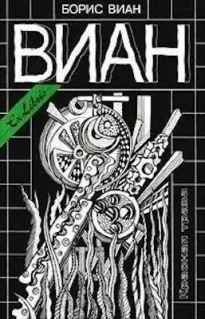Музей «Калифорния»
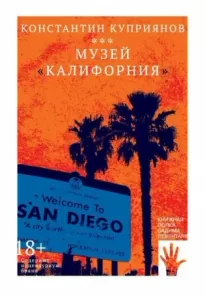
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
«Number eight. Avarice.
…но тщеславие [предыдущая цифра — семь] заставит игрока на следующем ходе испытать алчность. Он станет так одержим иллюзией отделенности от других, что никакое утоление желаний не окажется достаточным. „В конце концов, — подумает игрок, пораженный тщеславием, — я настолько лучше других, что я заслуживаю всего, чем они обладают“. Тем самым в этой игре хвост алчности сплетен в крепкий узел с хвостом зависти — зависть, порожденная тщеславием, приведет игрока в пасть алчности.
Наконец-то игроку откроется способность возненавидеть всей чернотой сердца других игроков: вот он стал слишком хорош, чтобы быть одним из них, а имущества у них куда больше, чем то, что они могли заслужить. Значит, есть причины, почему все, что они имеют, должно перейти к нему. Игрок делается озлобленным и жаждет чужого. В конце концов алчность становится одержимостью более злобной и ненасытной, чем жадность, потому что заставляет жаждать большего, чем просто материальные вещи: она толкает к желанию забрать чужое положение, славу, семью… Алчность — словно умноженная на зависть жадность, и эта змея лишь становится сильнее по мере того, как игрок пытается удовлетворить ее, а затем его настигают болезни.
Вот почему число восемь почти всегда теряет, когда происходит его умножение. Так, восемь, помноженное на единицу, еще остается восьмеркой, но, уже будучи помноженным на два, — „теряет“. Посмотри сам: 8 × 2 = 16, 1 + 6 = 7; то же самое происходит при всех последующих умножениях (8 × 3 = 24 = 6, 8 × 4 = 32 = 5 и так далее). И лишь когда восьмерка достигает последней цифры ряда — девятки, символизирующей завершение и совершенство, — она в состоянии вырваться из этой ловушки и одолеть свою тянущую вниз природу: 8 × 9 = 72, 7 + 2 = 9. Поэтому игроку, в конце концов, не стоит бояться даже столь темного порока, как алчность. Всегда все пройдет, чем бы оно ни было. Слабость однажды убывает, и на ее месте рождается сила, но и в центр силы рано или поздно приходит перемена, и сила сменяется слабостью. Поэтому в перспективе любого роста таится разложение, а любое уменьшение означает, что где-то и когда-то произойдет увеличение. Никогда и ничего не бывает потерянным окончательно, сама природа противится этому, неизменен лишь сам закон непрерывных изменений.
И среди планетарной семьи у восьмерки особое место, не хуже и не лучше других. Игрок может узнать, что восемь — это число доступных ему измерений во вселенной иллюзий, условно отражающих три состояния разума [невежество, страсть и просветление] и пять материальных элементов. В нумерологии «восемь» укажет игроку путь в край севера, где очень немногое насытит его, а значит, он будет гоним жадностью и завистью, становящимися единой злой волей, и там, в краю оставленности, ему стоит помнить о покровителе восьмерки — мудром, но отстраненном Сатурне. Под его тенью всегда неспокойно и бушуют сложные, плохо видимые за пеленой тьмы и снега, страсти. Сатурн покровительствует воздуху, он друг мыслителя, живущего отшельником на северной стороне труднодоступной горы, где занят работой над тем, чтоб пронзить природу тьмы и зла; в одиночестве совершает он тяжелую работу — познать то самое зло, куда погружен добровольно или по стечению роковых сил. Путь вниз, в теплые южные долины, закрыт для него, пока он не узнает о неизбежности своей работы, пока не примет, что конечная его миссия в том, чтобы зло остановилось на нем».
Мне не нравилось, куда книга и карты пытаются завести меня. Бессонница стала разъедать ум, который я почитал за острый, почти совершенный клинок. С этим клинком явился я в Бостон — город ума и революции — и всерьез думал поселиться здесь, среди разумных и рациональных, цвета нации.
Передо мной, помимо древних страниц и изображений, лежал кусок металла, в котором по щелчку пальцев делалось доступно любое знание человечества — достаточно иметь доступ к электричеству и сети, и это старое, устаревшее, проигравшее всем знание пытается намекнуть мне, что есть неосязаемое и недоказуемое?.. Но при этом существующее?.. Что есть некие потоки энергий и странные, на первый взгляд непрослеживаемые законы, по которым на самом деле, как по таинственной колее, тянется мое существование, иногда заходя далеко за границы описанной реальности, иногда выскакивая на многие световые годы дальше, чем поставленная в итоге жизни точка? Но чаще они прибивают меня: к сухой земле, к сухим горам на восточном краю округа Сан-Диего, за которым простирается море пустыни, и сухость ее зовет со-зерцать с кем-то бóльшим, чем я, хоть это и непривычно признавать…
Меня злила и одновременно окрыляла эта возможность. Темный мистичный ум хотел выхода, потому что прежний — сухой, дотошный, считавшийся с прямой математикой: где больше — значит лучше, где красивее — значит ценнее, где логичнее — значит правильнее, и так далее, — начал сбоить, ломаться о бесконечность и неизбежность болезненных потерь и поражений. А еще надо было как-то примириться с волнообразным течением времени. С тем, что после всякого подъема скатываюсь вниз, что после недель вдохновения могу испытать вдруг ненависть, отвращение к творчеству, ясную бессмысленность слова и дела; и ничего, кроме презрения, не сохранялось в падении, и никаких желаний, кроме желания железа и дерева, мяса и секса; но затем, после утомительной сезонной пахоты, после запаха пороха и злых, заработанных кровью денег — снова неведомый во мне пробуждался. Уже это был не Дамиан, но кто-то более тонкий, неуловимый — просыпался вдруг, — со свежей мечтой, предчувствовал безделье на природе и мягкость прикосновений, просил не считать часы меркой эффективности и не помнить в конце дня, какой день следующий и какой час.
И когда ученик готов, [когда его крик уже соткал гнездо в горле, когда он бродит с криком в глотке] — приходит учитель. Профессор Макс стал моим первым учителем. Я взял его за прообраз героя, остающегося вне текста, в рассказе в июле две тысячи восемнадцатого: только два диалога, только два персонажа, перекидывающие, как волейбольный мяч, одну мысль на двоих, потому что у чрезмерно сблизившихся, сросшихся людей, особенно накануне того, как развоплотится их общее тело, случается это странное перемешивание мышления, когда мысль одного вдруг заходит за границу второго, и тот неотчетливо, но ясно видит партнера по-настоящему обнаженным, видит и делит его зло (уже описывал этот рассказ, см. выше — примеч. соавтора-Д). Так, профессор объяснил, что мышление не сидит, закованное в одной лишь черепной коробке, — оно распространено, вместе с остальной информацией, в живом, пульсирующем повсеместно электричестве. Малыми и грандиозными волнами, в зависимости от интенсивности, электричество соединяет невидимыми покровами тайны и понимания все вещества в космосе, делая нас точками на огромной карте, от которой, задрав голову в темную ночь в пустыне, сойдешь с ума:
так много там миров, и мне предлагается познать их все механическими телескопами и жестяными посудинами?.. Я бессилен перед величиной космоса, нет ни малейшей надежды ни прожить, ни прочитать достаточно о каждом из этих сгустков энергии, которые дотянутся сюда. А после, когда глаза мои привыкли, я вдруг понимаю, что это кажущееся двойное дно черноты — отнюдь не кажется: и вправду, в черноту воткнуты еще бессчетные иголки, и это лишь те, что открываются мне с этой стороны, из этого предела галактики, из этого уголка постоянно ширящейся Вселенной, с этого острова, в этот день. А говорят, основную массу пространства там, у нас над головой, составляет даже не энергия и не свет нескончаемых точек, а ширящаяся, не доказанная мрачная материя — возможно, лишенная даже способности отражать/чувствовать свет, возможно, даже никогда физически не достижимая, но при этом давлением своим оказывающая решающее воздействие на вообще все, что я вижу, знаю, ощущаю — быть может, на мое настроение, настрой… судьбу? Или же я никак не связан с ничем из того, что занимает эти колоссальные, не поддающиеся разумению пространства? Или я оторван, по-настоящему оторван — и не только от животных и растений, обитающих в одном воздухе со мной, питающихся одной водой со мной, — но и от неба?.. Что за проклятие тогда сопровождает меня, что за проклятие тогда быть человеком?! — Нет, я отвергаю это, я не могу в это верить… защити меня от ужаса быть так беспощадно разорванным с основой, ведь… не для того все книги писаны, чтобы отдельным мне быть, стоять, умирать?
«И ты хочешь, — темной прохладной ночью в пустыне спросил меня учитель-ученый в забавном халате-плаще, плотный, как человек, недостоверный, как отец мифа, — разведать это все из железной машинки, и ты хочешь объять? А если тебе нужна лишь Земля, то почему бы и нет, но в двухмерных законах. Тогда почему ты так убежден, что силы рассудка достаточно, чтобы понять рассудок? — и разве не чувствуешь, что есть область в твоем сознании, которая, подобно темной материи, за пределами твоей солнечной семьи, давит, довлеет, создает движущее тебя давление?..»
Во всех проявлениях ума я бы ответил ему твердо: «Нет! Я знаю, что ум движет мной. Я знаю его голос: да, порой он сбивается, его легко переключить, им легко заиграться. Сейчас он пишет строчку книги, а через минуту перепрыгнет в трясину соцсети и будет увлечен пустопорожним разговором, в третьей реинкарнации присвоит себе имя Дамиан и с жадностью, с хищной алчностью заменит мой взгляд огнедышащим тщеславием, поведет дальше… а затем вынырнет, встряхнется, захочет есть, захочет пить, захочет спариваться — все это один и тот же ум, которым я и являюсь, разве не так?..»
Учитель с насмешкой оставляет меня наедине с возражениями, бросает беззлобно на риф предубеждений, я падаю голый и вялый на плоский камень, призывая учителя прийти снова.
Но все же этот ум — хозяин, и голос его — это я. Я знаю себя — не самого смышленого, быстрого, талантливого, красивого… Но главное — я знаю себя (?): непостоянного и порядком потерянного, уехавшего от всего, что составляло меня, вставшего тут перегородкой между светом повсеместным и крупицей непроницаемого камня, писавшего с тех пор, как буквы стали подчиняться пальцам, и никогда не овладевшего толком голосом, диктовавшим, пытавшимся прорваться ко мне и объясниться, чтоб я его, этот иной голос, мог объяснить постороннему, который буквы мои возьмет из протянутых рук и прочитает…
— я, а не кто-то, не давление какое-то там, звездное или беззвездное, Я совершил свое великое переселение из мира в мир, я худо-бедно основал новый мир и нашел, не без мýки, способ дышать, хотя дыхание всегда было мне препятствием и уроком, как стал преградой недостаток любви. Не мог я запросто жить, как остальные, не думая о дыхании, и мягких практик не искать, чтоб уживаться в имперских городах.
Поиском свободы, поиском более наполненной миски — я обосновал для себя, почему порву все, что знаю-сделал, и зачем сделаю свой язык неуклюжим, и неумным, и ненужным, но перееду… И посвящу новой земле следующую четверть века, где последнюю молодую силу потеряю. Но!.. это был мой ум, то есть Я — он решил, и определил меня, и увел меня, сделал меня мною.