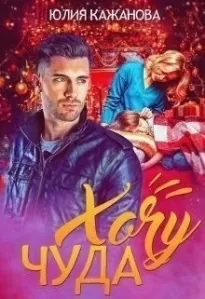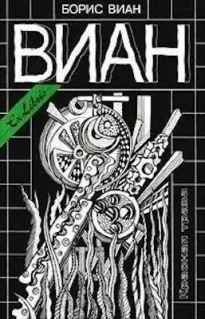Музей «Калифорния»
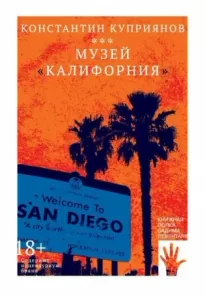
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
[Моя любимая глава с откровением-верлибром на озере Моно*]
* [, записанная семнадцатого мая, то есть менее чем за сутки до попадания в больницу, откуда я мог никогда не выйти, и это красиво: ведь было бы ОК, если бы эта глава в книге была последней, еще и обрывалась на середине. Здесь драматическая красота достигает своей наивысшей силы; и катится дальше плавно моя книга к неизбежному, чем кончаются (в отличие от жизни) все книги — разумному, рациональному финалу, где сходятся все нитки и брошенные в раздумьях кости, где все стянуто в узел крайнего катарсиса… Но если б дело шло, как в жизни — если б обрывалась книга так же, как жизнь, — в непредсказуемый день, когда перестаешь дышать, и попадаешь в больницу, и тебя интубируют, гасят мощным седативным, и спишь черным сном, дышишь при помощи машины и изо сна не приносишь ни воспоминаний, ни образов, выходишь, чтобы рационально подумать: «Выходит, раз эти двадцать часов была лишь тьма, пока я не жил, — нет ни Бога, ни постсмертия, ведь я ничего не помню, — но нерационально добавляешь: — Но раз я очнулся, раз это не стало последней главой моей книги, — то не доказательство ли это и Бога, и постсмертия? Не повод ли верить? Что кто-то со-зерцает со мною, что написал некий план со мною, который, коль скоро я жив и протекаю в пространстве непрерывных превращений, следует исполнить, как минимум для того, чтоб после следующей черной ночи, следующего отключения дыхания не просыпаться вновь этим ломким человеческим телом, автором строчек и глав?..»]
На озере Моно по западной стороне карабкается дорога, медленными зигзагами уходит все выше по серпантину. Первый снег следующей запоздалой северо-калифорнийской зимы встречает меня, наполовину скрывая зеленоватую воду в круглой чаше. Проезжаю проселочной дорогой северное побережье: в нем высятся из воды известняковые часовни, и если снег ненадолго прекращается, то можно разглядеть далеко простирающуюся озерную рябь. Дело идет к завершению, предчувствую, но может статься, что вновь наливается силой старое сомнение-парадокс, — предчувствием я превращаю страхи в будущее.
Дом на западном берегу принял меня: просторный колониальной постройки особняк, несуразно огромный даже по меркам калифорнийских долин — в двадцать первом веке не бывает нужно столько пространства. Больше половины комнат походили на декорации к фильму ужасов: повсюду, если только наступила бы ночь и зашторились огромные окна, есть уголки для черных страшных убийств. Хозяева в своей крестьянской простоте интересуются, зачем я приехал. Они сдают комнату почти за бесценок, ведь это пограничье пустоши и даже провода не тянутся отсюда на восток, это последний предел путешествия электричества. А я лишь хочу укрыться в этой опустошенной временем комнате, на восточной стороне, с видом на восток, на смуглые пепельные горы, за которыми впадина Долины Смерти, за которой нечто настоящее, куда я никогда не доберусь. За которыми всегда восход и превращение ночи в день. И приступ последний хочу пережить я как животное, ритуал ухода совершающее в предчувствии смерти.
Я хочу чего-то настоящего, в декорациях озера и дома на озере хочу оплакать умирание любви, доставшейся мне. Я так и объяснил: «Here I came to mourn my Julia…» — И вот в крестьянской своей простоте они принялись задаваться вопросами: «What happened to her? What was she? Was she a soldier? Why did she die?» — и так далее. [Да вы чего, люди?! Это же литература, нарратив! — Тут всем похуй, умерла/не умерла, смысл вообще не в этом, упростите, спуститесь на Землю, у вас же замечательно получается не париться о смертях сотен людей в несправедливых, ужасающих обстоятельствах, до появления мира видеокамер и мира Тиктока вы и понятия не имели, сколько смерти происходит за стеной от вашей реальности, а теперь вдруг очнулись?.. Да вы ни черта не очнулись, загляните в это истекающее кровью сердце!]
Они спрашивали, пока не поняли, что с меня нечего взять: ни ответов, ни стройных рассказов о Юлии и последнем нашем свидании в июле, они отпустили меня восвояси; а мне не удается надолго погрузить этот умирающий дом в свое настроение скорби, потому что вдруг первый этаж озаряется криком младенца, новорожденного здоровячка, который уже открыл глаза и смотрит на все с чистотой привета — из совершенного мира приветствия. Оказывается, дочка семьи только что родила внука, и понемногу я заметил, что попал в огромный, жизненного цикла дом, и мне сделалось отвратительным свое положение. Я заперся в комнате, приложил ухо к тонкой фанерной двери и слушал с раннего вечера до поздней ночи, как радуется, дышит и живет семейство из четырех поколений; представлял, как по этим комнатам расселено было еще больше людей: тут могло бы наверняка поместиться человек сорок без нужды тесниться. За пару суток снегопада (падал пусть и двое суток, но сразу таял, то есть это не снегопад заякорил меня здесь, это я застрял в этих днях, чтоб вынести высшую меру удушья, чтоб взвешенным быть — задышу ли снова или не задышу в преддверии эпохи Предчувствия, которой пророком отказывался служить) я насчитал в доме одиннадцать человек: древнего старика без голоса и лица, который лишь похрипывал, как я, и постанывал в предсмертии, двух бодрых старух и двух нестарых стариков, стариками их делали только морщины да волосы, но даже спины их были прямыми, и они могли, должно быть, скакать на лошадях, еще было две пары людей средних лет — моих ровесников, — ребенок восьми и вот еще явившийся буквально давеча новорожденный. Во всех, кроме, быть может, древнего патриарха, была такая масса жизни, что я с первого же утра здесь начал страшно задыхаться и страдать своей несносной астмой, я понял, что все это заканчивается вскоре, что и книга моя понемногу завершается, что осталось менее четверти ей пути, потому что с таким дыханием я просто не пронесу ее дальше, и я подумал: что сознание еще придумает перед последней ночью?
Ведь хотя все мои учителя хором учили, что будут следующие жизни: и Тибетец, и Гурума, и Люсия, и даже профессор Макс — все говорили о перерождении души как о свершившемся, неизбежном факте, я видел в том уловку иллюзии. Только Левка, пятый мой ангел, не тешился другой жизнью, кроме имевшейся — той, где глупый хозяин оставил его, уехал в даль, где размажет его по стенке. Страшно расставаться с фактом жизни, расцепляться, хочется сцепления с чем-то, что способно отделять нестрадание от страдания, здоровье от болезни, любовь от нелюбви. В конце концов, без чувства смерти не было бы восторга рождения… И это сознание точно угаснет, а если и зажжется на его месте другое утро — это буду не «я». Это будет другой, он, может, и прочитает это — мое затянувшееся откровение, — может, и подивится затуманенности, замутненности, затемненности, скажет: «Затемно написано». Спросит: «Зачем написано?» Заявит: «Не чистой, не собственной кровью написано, перескоков много, и ни на чем это не удерживается, и это, в общем, не мое», — и захлопнет с раздражением, а может, под утро, от бессонницы, дочитает, фыркнет, но, за собственное усилие желая награды, уже не обругает, а погладит, поставит куда надо, этот будущий человек, даже не сознающий, что состоит из той же энергии, из которой я состоял, из той же духовной материи. Но мутно, слишком смутно жить, надеясь на такое продолжение…
Какое ему дело, что я часами, днями считал вдохи полные и надломанные, и высчитывал минуты между ингалятором, и колдовал с алхимией собственного дыхания вместо того, чтоб наслаждаться трудом, любовью — я всему позволил померкнуть и стать дыханием? Жертвы не истребованные никому не нужны, лучше пожертвуй себя, чтобы преумножиться, чтобы раздался здоровый крик здорового младенца, а большего земле вне дома не нужно; твои тухлые, перебродившие мысли, фантазии, тщеславные твои фантазии о подъеме на вершину — всем от них только тошно и тяжко, как от маслянистых прикосновений древнего деда, а ребенок все кричит в его руках, хотя уж второй час ночи… Так вот последним сознание придумает: не зал, полный людьми, не плескание в бокале шампанского эха аплодисментов, не горящие глаза, дружно обращенные к нему (ко мне) на сцене… нет-нет — напоследок пожелает оно слиться с глубоким, никогда не нарушавшимся дыханием степи, пустынной дали и через Пепельные горы на северо-востоке, через Долину Смерти, пожелает перелиться ветерком с запада в малообитаемые пустоши Америки, в ее бесконечные луга, сквозь посевы ее проследовать и увидеть красоту мерного вдоха весной и выдоха осенью, ее замершую, замерзшую плоть зимой, ее очнувшуюся мякоть летом, мерный, покойный ритм ее явной жизни; как хочется стать дыханием напоследок и даже не просто дыханием, а нашептыванием в ветре, который слышит тот, кто умеет подлинно, окончательно расслабиться, как я расслаблюсь (надеюсь) перед смертью, как Юлия, должно быть, расслабилась в последний день, когда передумала покончить с собой и удалила меня из контактов, запретила звонить и слать ей открытки, — так я утратил еще одну душу, мерцавшую мне где-то в отдалении, — нет ее больше, и дыхание еще короче, натужнее, на пути дыхания встает железный ком, его вынужден обходить воздух на выдохе, застревает, переполняет меня, я злюсь, раздражаюсь, пишу стихи без точки об этом: желающий двумя точками избавиться от назойливой, не уходящей мысли, что слишком много пространства белого, драгоценного, отданного болезни; про болезнь уж всем понятно, они не желают слушать дальше, эти единороги в стойле (да, у той семейки на озере Моно поселились единороги, рога их спилены невидимостью, они есть, как есть ритм в верлибре, но их нету на ощупь, так что, кроме меня, столетнего старца да младенца в белой робе, никто и не знает, что это семья единорогов привязана в стойле), — и тех притомили жалобы человеческие на сломанность тела, но их я хотя бы замечаю, постольку, поскольку замечает чудо слишком внимательный умирающий, а у него спрашивают: «Чего бы больше всего ты хотел? Наверное, здоровья? А может быть, жены, которой никогда не обзавелся, которая хоть поухаживала бы, покуда ты превращаешься в это — растраченное зря время и в плоть, растраченную ни на что?» — Я же, поморщившись, повторяю через усилие выдоха: «Я бы желал стать шепотом в ветре, достигшем однажды после века скитаний молодой медитирующей девицы, которой выдохну в лицо, обезображенное насилием, желая сообщить, что она красивейшая из встреченных мной, и жаль, что я — лишь ветер, простившийся с памятью на бескрайних равнинах Небраски, я поэтому не могу ласкать, и любить, и взять ее в жены; не стану я человеком, чтоб быть с ней… Доброй была эта душа, но вышел ее час, вышел ее час, ей осталась четверть книжных сумерек до конца, но я хочу, чтобы пришли ей в голову стихи, благодаря этому ветру, стихи о самом страшном, об очищающем от скверны; и я хочу, чтоб она погрузилась так глубоко в мои ветреные объятия, умывшие изуродованные щеки посреди зимы, где щиплют щеки ее на морозе слезы, чтобы сказала она, очнувшись:
„Я написала в сумерках нечто странное, то, что высветится в каждом, и если бы стих только до каждого добрался — я отразилась бы в нем тенью или блистательным летящим, и хотя этого не будет, хотя книжечка с единственным стихотворением выйдет тиражом в пятьдесят штучек и с моим слепым парнем мы сожжем их в огромном костре на потеху тремстам подписчикам нашим в Трах-Токе, — несмотря на все это, мне не страшно: ведь молитва-медитация исполнена, я терплю, мне не страшно; ветер шептал мне и был точно живой, в нем дух старого писателя, из России выброшенного на древнеиндейскую пустошь, где мало старой крови, он все поведал мне: какая у него была последняя мечта и последнее пристанище, вот, за теми пепельными горами, невероятно далеко отсюда, без карты не доберешься… Он жил в Калифорнии, где мы все мечтаем оказаться, совершал ритуал, приносил маленьким божествам маленькие дары и не жаловался нигде, только в книжках, но его заразило неспособностью отдохнуть, это извечная была болезнь век назад, когда он жил и писал, и вот он пожил, поработал и уставшим умер бесславно. Как он работал? О, нашептал он сегодня, когда я плакала в праздном наслаждении зимним ветром, но зачем я рассказываю?.. Впрочем, есть целая бесконечность времени, пусть и это выявится, все уж создано, и мне остается только выявлять. Нет работы, и я пишу стихи — уходит старый век, уходит старый век, закрываются города и в прах превращаются ненужные дома, в них нет желающих жить, пилигримами полна земля, а я последней оставлю ферму отца накануне последнего скитания. Так вот стану я рассказчицей, написавшей про него — пожалуй, мне не сложно, не жалко побыть саркофагом для его слов: он вставал в семь, без напоминаний, пахло завтраком в доме старых крестьян, родивших накануне младенца, и бездействовал до восьми, онанировал, пил кофе, снова онанировал, гладил кошку (двух кошек?.. одну кошку? двух кошек?), читал, но мысль не фокусировалась, он звонил другу-писателю, брату-юристу, матери-учительнице, отцу-инженеру, звонил, пока на другой стороне планеты наступала тьма, накрывала планету, продолжающую падение сквозь то, в чем падать невозможно — однако она находила способ падать и двигаться через ситечко времени, — а в обед, когда укладывалась спать другая сторона (холодная сиеста на озере Моно) и храпела, похрюкивала, стонала и обмазывалась сновидением, — он садился, начерчивал десять-двенадцать тысяч или двадцать-двадцать пять тысяч, целую главу цельную — короче, не так много, не так мало, — ничему не давал дальнейшего ходу, все браковал, и дыхание его ослабевало, и время его истекало; а желание быть дыханием перед забвением услышали ангелы, провожающие из бренного, истлевающего мира в мир Бога, где ничто не прервется и не будет забыто, где все, кем мы побывали, вспомнятся и будут потехой, потешные мы там: и убийцы, и убитые, — понимаешь?.. Мы все актеры грандиозной драмы. Короче, из этой смутной, печальной медитации завещал он мне, зная, что будущего коснутся косноязычные его слова из заложенной намертво груди: что нестерпимо бесконечное лето и хочется с ним покончить, что невозможно работать, когда в беспечной синеве покачиваются пальмовые головки и их овевает крик нового младенца, что в каждом рождении приходится подмечать признак смерти, но лето не рождается и не уходит отсюда, и вот он застыл, в вечном лете, как желал; хорохорится и объявляет: «Ой, ваша чертова русская зима? Да ненавижу! Да, ненавижу, хоть и помню, что поцеловался первый раз зимой, в ноябре, был две тысячи восьмой, а последний — тоже зимой, в апреле, был две тысячи девятый, и помню: падал апрельский снег, был снежный апрель в Москве, и та, кого я целовал последней, показалась бесконечно красивой, и я подумал еще, девятнадцатилетний: „Как странно!