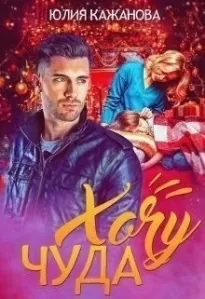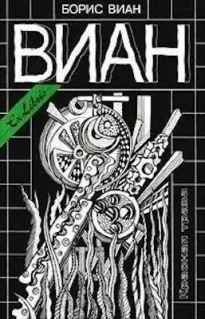Музей «Калифорния»
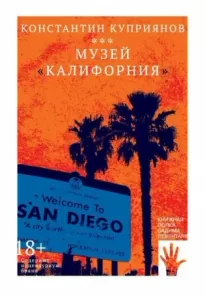
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
Пройдет лето, и она не будет помнить этот поцелуй будто первый, когда я спросил: «Давай напоследок поцелуемся, давай завернем еще один слой в эту историю?
Ведь так жесток апрель», — и она скажет: «Да, пожалуй, не стоит», но они все равно стояли, целовались (или нет? какой ужас — действительно не помню!), снежинки оставались в ресницах, и природа невинная, безразумная, не знала, что происходит, и вот я ненавижу ее за незнание, за ее чудесное, детское, как у невинного котенка, незнание всего творящегося: как рождение наследует смерти, как проходит юность и как достигается зрелость, пряность, спелость, как они понемногу ведут к тому, чтобы стать дряхлым и ненужным, и как приходит смерть, после которой рождение наследуется — разве не догадался?.. Вот же, три строки назад, я об этом написал, слепому неполучателю. Жаль, все это не будет получено, адресата не существует, и потому ветер и ровный здоровый выдох без препятствия — мое единственное желание“. Кроме, утаил он, желания написать еще, но из-за непрекращающегося желания и неотдыха (ведь не отдыхал он и после того, как напишет: бежал на работу, бежал на заботу, бежал на общение, искал во тьме, с кем бы перекинуться парой сигарет или пива перед сном, с кем бы переброситься одинокими, как у волков, взглядами, нет тут моей любви Жени, — четыре одиноких учителя вторили, — и нет отдыха, и дома не будет отдыха) — из-за усталости ничего-то больше русский поэт не напишет. Природа в вечном лете не отдыхает, и не отдохнул как следует он, пока не выдохнул ветром бесконечным в вечность, в невинность, не считающую времени, и пока не пронесся по шерсти сухих равнинных трав, где я сидела без надежды, медитировала, уже понявшая, что нет ни единой практики, ведущей к единству, кроме, может, греха самоубийства, и что нет освобождения в мире плотных тел, нет-нет, и значит, удел мой — только стихи-лазейки, такие, как это. Но кем оно будет прочитано, кроме единственного?.. Кем? Разве не телом этой ледяной равнины, телом Земли приветливой?..
Не папой же моим прочтенным ему оказаться — этим жестоким исполином, который привязал меня дисциплиной, — и не сестрой же моей, целившейся в лучшие девочки, а в девятнадцать, на пике спелости, попавшей под колеса, ставшей молчаливой злой калекой перед компьютером, отпускающей теперь суда из нашей пустоши Небраски, где не бывает полноводных рек и морей с океанами — она отпускает суда и корабли ходить, набитыми пилигримами, бродить через карибскую синеву; ей все это не повстречается, а предложение о ней из жалости не кончается, но я умертвила ее в себе — жалость к себе она не прощала, скоро будет пятнадцатая Пасха, как она меня не признала; и не братом же моим будет прочтено — этим живодером, работающим на бойне, превращающим землю в страдание, страдает земля из-за него и плачет, переваривая насилие, а брат, то есть „брат поэтки“ — послушай, как сладко чавкает в этой рифме надлом и парадокс выдуманности — ничего уж не чувствует, и когда я с полной грудью вернулась из молитвы и принесла остатки говорящего ветра и высвободила возле его уха выдохом, то он не очнулся; потому что нет техники или заклинания, чтоб очнуться — и он не очнулся, а очнувшаяся в целой семье, целой Вселенной я одна. Как печально, одиноко, неизбежно… Я очнулась на вершине ледника, на вершине айсберга, век спустя после человека, выдохнувшего это в мое лицо через пепельные горы и Долину Смерти, сквозь столетие забвения прикоснувшегося ко мне — вот все, что мне достается. Как не литься наружу сладкими невозможными слезами?..
Как не повторять, словно взорванная фигурка, разговорившемуся со мною ветру, и не целовать его бестелесным поцелуем, словом единственным, но бессильным, но безнадежным, не шептать ему, обливаясь ядовито-солеными слезами: „Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо…“?!»
Однажды утром я встал в этом доме, умытый, как будто отмытый от этого надуманного страдания. От меня словно отдалились все люди-крючки, которые заманили туда, к краю пустоши, и я увидел в простоте то, что было за окном: бесцветное серое небо, одного-единственного сладковатого пигмента, двадцать первый век, зеленое (сегодня) недвижимое озеро с трепещущим над ним солоноватым воздухом, полным жизни и смерти, дальнюю долину, принадлежащую людям, не нуждающимся в ней, одноцветную — густого мясистого жестяного цвета, словно все в ней сделано, — как речь моя, единым ритмом, единым приложением усилия. И утром я уже не был вовлечен ни в какую боль, и без боли было пресно и скучно, но поистине легко.
Я сбежал по лестнице вниз. Скрылся незаметно, как английский призрак, невидимый для одиннадцати лиц семейства. Только младенец заметил — поднял крик, всеобщее внимание притянул, оно закачалось на зеленых волнах, и в преломлении зеленых волн, — я увидел, приближаясь к ним, что есть все же некий смысл в заполнении пустот словами, что слова не совсем уж инструмент самолюбования, что из слов, как будто из пазов действительного, может выскакивать в разреженный мир несовершенной любви что-то, чем я вправе распоряжаться, чем я вправе делиться. И хоть и есть проблема в том, что я перескакиваю с голоса на голос, с одного получателя на другого, есть на другой стороне недвижимый улыбчивый, окаменевший (в некоем смысле) получатель, так пусть!.. пусть… Без него не сыщется мне созерцателя, и в пишущей руке начинается непроизвольная, аутоиммунная боль: «Не раскрывай рта!.. Кому ты все это?!» — А я должен знать, иначе нет сил на работу, но разве ты всегда едешь к людям, ждущим тебя? Семья из одиннадцати не ждала меня и не удивлялась отъезду. Я улизнул дальше на север, вдоль границы пустоши, в сторону серого пятна Рено, пока все они, взявшись за руки (кроме снова заплакавшего младенца), истово молились какой-то дневной рутине, улизнул, громко рыкнул двигателем, улизнул, помчался выше в горы.
Там, выше, в Сьерра-Неваде, в Сьерра-Калифорнии, есть Тахо — волшебный синий глаз, поделенный между двумя штатами. Ему шепчут: «Ты в двух землях», — а он что? Распахнут и не моргает, вбирает откровение, и наплевать ему на какие-то там штаты, он и слова-то давно разучился понимать в экстазе своей чистейшей любви; небо сползает в разные стороны то так, то эдак, отражается в нем, зеленится, серебрится, изумрудится; странные рифмы и молитвы — все втекает в это озеро, но, в отличие от Моно, часть воды вытекает, и тем сберегается живительная пресность от соленого безумия, поэтому Тахо — не затхлое, кислое море, а все-таки живая купель, живая старая индейская жемчужина… На северных берегах еловые склоны и горы, на южном берегу — калифорнийский город, South Lake Tahoe, уютный и нелепый, как все, сохранившееся в наивности шестидесятых в двадцать первом; в огромных щелях-зазорах моего следующего дома блуждает холод, всегда он ищет лазейку. Мне холодно, мне одиноко, но под одеялом было уютно, а на восточном берегу громоздятся слишком огромные невадские отели-небоскребы, серые толпы посетителей Рено — последнего большого города по дороге в пустошь, помпезных банкетных залов, невероятных бассейнов и полей джакузи, полей для гольфа, полей для наслаждения — настроили люди на краю пустоши, но как бы ни стремились они удержаться от безумия пустоты, она манит бетонной дорогой, и поток машин струится дальше. На этой слишком оживленной границе невозможно расслабиться, там будто ходишь по погосту, наступаешь на черепушки и кости и без деликатности ворошишь чуждое наследие.
Надел маску, затянул шарф и помчался по красно-черной трассе на сноуборде, на скорости через снег и ветер, чтобы выветрить немного из головы пространство слов и оправданий, чтобы лишь сиюминутные рефлексы вели, чтобы управляющий мной управлял лишь тем, что прямо здесь и сейчас. Прямо сейчас — баланс и маневр, как на доске, когда вокруг тебя океан, а тут океан хорошей землистой плоти и первый нарядный снежок — все восхищены его красотой, искры из глаз от радости. А у меня сосредоточение на теле, я изматываю себя: подъем-спуск, подъем-спуск, я трачу все силы на реакцию и сопротивление, я падаю обессиленный после пяти часов, когда уже стемнело, и темень стекается в Тахо, делает его все тем же неподвижным, но черным глазом. И снова в одинокой мотельной хижине выписываю сравнения и тревоги перед созерцателем не существующим: кому и для чего отданы все эти силы?.. Довожу себя до истощения и падаю в сон.
Я не понимаю к чему, но я готовлюсь. Делаю записи при свете прикроватной желтой лампы, в приозерной деревушке. Все тут очень скученно — местные зря слов на ветер не бросали, приручая приграничный край, здесь все в полноте и в достатке. Вопрос зарождается лишь с появлением человека, пресытившегося летом, — вопрос «Почему?», который, как трещина в небе, порождает все дальнейшее движение, усложнение. Ты скажешь — излишнее, ты скажешь — замудрёное, но это оно поднимает и подводит тебя к границе исследованного, к последнему слову и чувству — туда, где невыносимо терпеть. И хорошо, что время всегда проливается дальше, проходит через любую заводь и твердь, кроме телесной смерти, втекает в пресное озеро, откуда многими речками и ручейками пойдет дальше, и на всех путях эту жизнь будет ждать суд и осуждение ума. Везде вмешается ум, как разбуженный ночной призрак, придирчивый и клокочущий, будет всюду лезть и соваться, пытаться аттестовать. Даже чистое течение он загадит, и очернит, и навяжет странные мысли, и навяжет странное вязкое ощущение на зубах, на губах: будто говорить самому с собой было преступно, эгоистично; заранее мертвый самомонолог ты родил, он станет убеждать, что самораскручивающееся послание из ниоткуда в никуда и есть твой первородный грех: ведь выбрал не песнь молчания, не песнь солнца, не плавность превращений трещин неба в единство неба, а потом далее в трещины и белизну, и чистоту неба не выбрал! А выбрал слова, символы и фигуры слов, становящихся, будто по мановению пера, фигурами-миражами над непостоянным вздыбленным горизонтом из тех же пепельных гор, куда ступить не осмелился. Что если даже в наступившей зиме, в которой добросовестно извалялся сегодня, мне так и не покинуть вечного калифорнийского лета?
Ведь как бы ни было упрямо мое северное увлечение и направление, как ни маячил бы на отдаленном севере силуэт потерянной для меня женщины
[уже не знаю, жива или нет, есть ли бедра и грудь ее еще, или она давно растворилась в земле, ее очертания превращены в слабый выдох ветра, остались пределом памяти, или никогда не случалось с нами ничего, что я натужно тут вспоминаю…], — несмотря на все это, я стеку, как полагается воде, на сытый, ленивый юг, в сытое степное довольство, в сытый предел, где не поставлена точка; и через точку с запятой следует новое цветение, отсвет, новая ласковая осень чувств, лишь обрамляющая короткую паузу перед следующей густой жизнью. Вот и все, и значит, никогда этому не перестать, и значит, в какой-то мере, вытекая в самом начале из круглого озера, я примерно уже знал, во что, чем и как впаду, и значит, была небольшая уловка, и чтобы кончить быть уловкой — надо найти силу перестать, надо найти силу остановиться! Бах!
[Что произошло на самом деле]