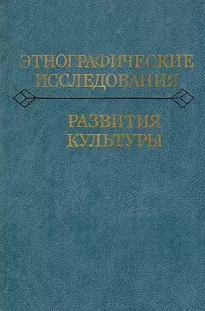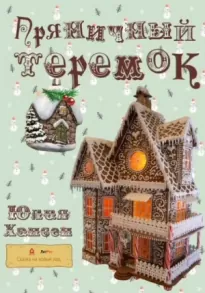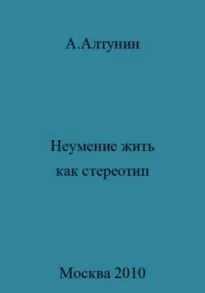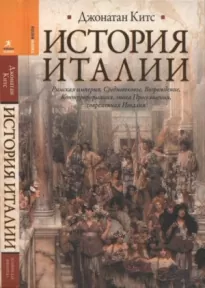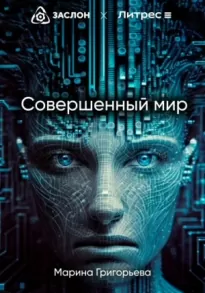Постмодерн в раю. О творчестве Ольги Седаковой

- Автор: Ксения Голубович
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Постмодерн в раю. О творчестве Ольги Седаковой"
Чье это лицо? Кто это «выбирает»? Что это за образы, на кого действует скрип ночного леса, шум ненастного дня? Это образы, мало соотносимые с личностью человека: они безличны и порождают в нас безличные состояния страха, тревоги, безнадежности. Если такие образы и отражены в зеркале, то не как чье-то «лицо», лицо «лирического я», а то, что мы прямо видим перед собою, нашими собственными глазами, это наши собственные состояния: и твои, и мои, и его, и ее. Взрывная истина этих строк состоит в том, что «зеркало» не имеет собственного образа, у него — образ того, кто в него смотрит, значит — твой образ, читатель. Тот, кто читает, тот и отразился. Это не мой — это твой образ, который «я выбираю». Ибо я вижу того, кто заглядывает в меня: образ, похожий на меня, потому что, как будет сказано в «Первом вступлении», судьба похожа на судьбу и больше ни на что. Мы думаем, что мы читаем стихотворение на листе, но если мы отважимся пройти по дороге его смысла, мы увидим, что на деле мы вглядываемся в стихотворение в поисках себя. Никакого стихотворения тут нет, есть ты сам, в какой-то огромной глубине, увиденный там, где ты сам себя не видишь, где никто тебя не видит, где ты думаешь, что тебя нет. Ибо для Ольги Седаковой стихотворение — это не какой-то отдельно стоящий прекрасный «объект» в духе «искусства для искусства», а пограничье самого читателя, его собственная глубина, живое зеркало. И этот портрет весьма далек от любого академизма. Это очень современный портрет или, в духе актуального искусства, — «хеппенинг». Это — целое, построенное как неустойчивая и на первый взгляд спонтанно найденная совокупность отрицаемых частей. И своим предельным содержанием это целое, этот образ, имеет не чье-то лицо, а предельную реальность лица того, кто в него заглядывает. А предельная «реальность» лица, на глубине которой живет человек, быть может сам себя не узнавая, это — не что иное, как стыд или раскаяние, которые согласно правилам чистой поэзии в этом эпизоде ни разу не называются. Писать про них — пошло, а вот приближать их ужас и боль — задача.
Это искусство, я бы сказала, «зеркальной глади», достигаемое минимальными и скупыми средствами внутри сверхтрезвой реалистической оптики поэтического письма, где ничего не отражено, ничего не описано, но где в астрономически точном, расчисленном строе расподоблений одного и того же все «восстало само собой» (как писал Мандельштам, «из глубокой печали восстать»). Эта тончайшая работа не столько «противоположного», сколько «тождественного», отвечает всем требованиям абсолютного реализма, которые выдвигает время еще не закончившегося двадцатого века, «одержимого страстью к реальности» (Алан Бадью), или к «самой Вещи» (Жак Лакан), или Большой вещи, как называет это Седакова. *
На этой новой этике, связанной с новой техникой поэтического письма, мы остановимся подробней. Мы помним, что глубокий и существенный пафос Михаила Гаспарова состоял в том, чтобы дезавуировать поэзию. По сути, целью устремлений великого ученого было показать, что тот высокий смысл, который мы приписываем поэзии, который она содержит и дает «потрогать», — не существует. Смысла либо нет, либо он совершенно прозаичен, «реален» (в привычном смысле слова), а все остальное — только иллюзия. Эту мысль можно пересказать так: «Тех высоких смыслов, о которых ты думаешь, что ты воплощаешь, — ты не затрагиваешь вообще» в силу самой структуры нашего языка, а то, что ты затрагиваешь, — не более чем игры повседневности. При дальнейшем доигрывании выяснится: то, что ты называешь любовью, окажется страхом одиночества, и повезет, если любовь твоя не станет насилием над другими. Милость, допустим, окажется просто неразборчивостью, сила — волей к вла-сти. Эта двойственность всех и всяческих ценностей, обнаженная еще Ницше, продолжает свою демонстрацию в мире, который понимает себя как онтологию «силы», то есть битву различных точек зрения, маскирующихся под ценности, а на деле стремящихся лишь навязать свою волю другому. К великим вещам, о которых мы любим говорить, мы отношения не имеем. Они — звезды на небе. Мир плох, и то, что может быть высказано, должно быть высказано честно. А о чем ты сказать не можешь — о любви, милости, силе, верности, которые бы на самом деле были теми Большими вещами, которые эти слова называют, — то об этом надо молчать, советовал великий аналитик языка и поэт философии Людвиг Витгенштейн. Это своей работой утверждал и Гаспаров. «Чуда не будет», — строго говорит Михаил Леонович в предисловии к «Очерку истории русского стиха». Наша прерогатива лишь честность. Насколько эта проблематика связана с Кантом, мы сейчас рассуждать не будем. Для нас она связана еще и с муками Андрея Тарковского, который почти во всех своих кинофильмах после «Андрея Рублева» ставит один вопрос: может ли человек, взявшийся принести жертву, действительно ее принести, или он будет лишь актером? Найдется ли такой человек, чьим подлинным желанием было бы действительно спасти мир? Тарковский так и не ответил. В сущности, это глубоко продумываемая Европой концепция знака. Травма осознания, что знак, изображение, представление чего-то не есть то, что они означают и представляют.
В отношении интерпретации знака эпоху модерна характеризовал миф о большой утрате. Иными словами, знак указывает на то, что в нем не присутствует, что оставило только свой след, но что в силу своего отсутствия является напоминанием. Знак меланхоличен. Он — «усыпальница», «гробница». Он должен быть изощрен, богат, сложен, как ребус, и мы, читая его, поднимаемся все выше по лестнице того смысла, которого нет, ибо он — только оставленный след. Эта тоска по высокому, тоска высокой культуры, явленной в системе знаков, — та самая тоска, что породила разного рода тоталитаризмы, есть меланхолическая диспозиция знака как аллегории. Могут ли знаки значить иначе? Можно ли интерпретировать отсутствие означаемого внутри знака иначе, чем в модусе утраты? Символисты развили для этого особую концепцию символа, на которой мы не будем останавливаться, лишь укажем, что многозначный, ассоциативный, рефлексивный символ не выдержал критики «реальностью» задолго до начала Второй мировой войны.
Исходя из нынешнего настроя, мы можем считать, что знаки не значат ничего. Что их смысл — условность и ни к какой реальности не отсылает. На этой тавтологии можно было бы успокоиться, если бы критика таких умов, как Михаил Гаспаров, до таких удивительных степеней не напоминала аскезы, бросающей вызов тому, кто зовет себя поэтом: ты можешь по-честному сказать о любви? То есть дать такой смысл, такое дыхание, такой дух любви, который преодолел всю критику знака и, наоборот, стал утверждением правдивости его расщипленной природы? В основном, отступив, постмодерн — особенно у нас — отвечает: «нет, не могу», я могу только показать, что слово «любовь» не имеет отношение к любви и создает слабые колебания ткани собственных невозможностей — остатки былой роскоши, чем и является почти вся нынешняя поэзия, которая почти вымаливает себе право сказать «люблю».
Как мы видели, в технике Ольги Седаковой найден совсем иной ответ. Знак есть отрицательная единица, отрицающая саму себя, — себе не равная. Расподобление тождественного — это превращение одного во множественное, в то самое «не то, не то, не то», которое творит «то» в аскетике отрицания. Поэзия и не говорит, что Любовь, Милость, Красота, Справедливость, Кротость, Сила есть такие вещи, которыми мы можем владеть. В их сердце — тьма, в их сердце — отсутствие. Всякая Большая вещь себя отрицает — фраза «я справедлив» этически вызывает отвращение [4]. В сердце Больших вещей, как показал весь опыт после Второй мировой войны, — отказ, потому что они предполагают дистанцию, отсрочку, ожидание, разлуку, разделенность и смертность в отношении с теми, кто к ним обращается. Если бы не было различия и сложно устанавливаемых границ и обменов — не была бы возможна и дружба. Та же интерпретация из «отказа», «изъятия» коснется и всех больших понятий. В том числе необходима новая интерпретация понятия силы как именно того, что не ведает насилия. Что собирает иным образом, чем насилие. Большие вещи — это единства, которые являются не монолитами, а чистым невыразимым отношением, они всегда «еще что-то» в отношении того, что мы можем сказать о них же. Они целое, как бы замыкающее своей волной разное, глядящее на него чуть сверху. Чтобы указать на них в языке, надо всегда говорить о чем-то другом. Эти вещи-связки сказать невозможно, но — и это во власти поэта — их можно сделать. Их можно сделать, проходя из самой глубины реальности нашего языка, из факта самой нераздельности и неслиянности нашего знака.
И теперь вслед за Сергеем Аверинцевым мы снова назовем такой знак символом, но уже не в духе символизма. Символ — это целое (обычно монета), состоящее из неравных, разломанных частиц, сохраняемых в знак дружбы, и памяти, и любви (двух дружественных семейств из разных городов, где наследники тех, кто когда-то заключил союз, даже и в лицо друг друга могут не знать). При встрече их неровные, неравноценные частицы складываются по краям, но не слипаются, не сливаются, не растворяются. Трещина внутри остается, они содержат в своем единстве тень и возможность нового расставания. Потому что любовь — это не полное слияние, а то, что подразумевает отношение, расстояние, разность, сам принцип реальности другого и встречу с другим. И такой поэт, как Ольга Седакова, строго и устойчиво подбирает неравновесные динамические частицы пар, способных вновь и вновь продлевать процесс обретения значений, и нико-гда не полагается на привычку слипания друг с другом. Поэт знает: на этом месте в этой паре уже кончилась любовь, и он знает, какой силы удар ритма и смысла требуется, чтобы ей возобновиться. Смысл знака — в означивании. Смысл знака — путь. Путь и есть та тема, о которой говорит поэзия Ольги Седаковой. Большой путь любви. А дело поэта — мельчайшая точность отбора того, какие члены встретятся в динамической паре, чтобы составить целое, чтобы подтвердить свой давний союз.
Для сравнения: два слова о сильной метафоре, столь важном детище модернизма. Модернизм стремится к экспрессии, к яркости, к резкости контраста. В ее, метафоры, чуть не барочном искривлении две части сравнения обычно функционируют как перцептивный взрыв. «Стол» и «столп», сравниваемые великой Цветаевой в стихотворении, посвященном работе поэта («Стол»), — тут мне порука. Цветаева — самый яркий пример русского ХХ века, но вовсе не она придумала уподобить фигуру метафоры и бракосочетание двоих. Это делали все, включая Беллу Ахмадулину, сравнивавшую себя со «священником», что венчает тайный союз слов [5]. Цветаева тоже распространила принцип метафоры на принцип любви, только уподобила себя не скромному священнику — а сразу духу. «Двое вместе, а рядом дух», — говорит она. Поэт есть дух. Добрый или нет, сказать сложно. У Седаковой это бракосочетание осуществляется чем-то куда менее сильным, куда более «реальным», и позиция поэта будет весьма неожиданной, если судить по тому, что мы изложим ниже. *