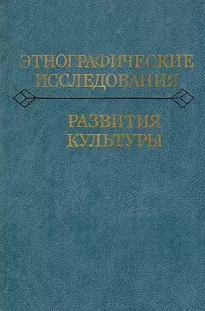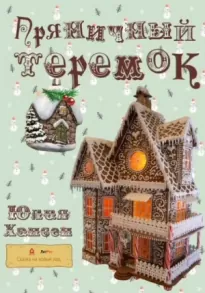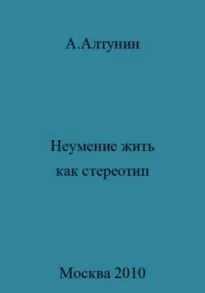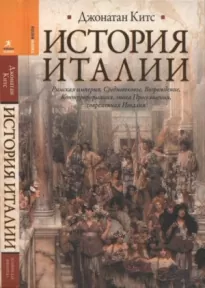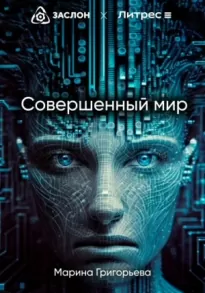Постмодерн в раю. О творчестве Ольги Седаковой

- Автор: Ксения Голубович
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Постмодерн в раю. О творчестве Ольги Седаковой"
И занялся собой. Имел он странный дар:
ему являлся вдруг в сердечной высоте
Владыка Радости, висящий на Кресте.
11. Мельница шумит
О счастье, ты простая,
простая колыбель,
ты лыковая люлька,
раскачанная ель.
И если мы погибнем,
ты будешь наша цель.
Как каждому в мире,
мне светит досель
под дверью закрытой
горящая щель.
О, жизнь ничего не значит.
О, разум, как сердце, болит.
Вдали ребенок плачет
и мельница шумит.
То слуха власяница
и тонкий хлебный прах.
Зерно кричит, как птица,
в тяжелых жерновах.
И голос один, одинокий, простой,
беседует с Веспером, первой звездой.
— О Господи мой Боже,
прости меня, прости.
И, если можно, сердце
на волю отпусти —
забытым и никчемным,
не нужным никому,
по лестницам огромным
спускаться в широкую тьму
и бросить жизнь, как шар золотой,
невидимый уму.
Где можно исчезнуть, где светит досель
под дверью закрытой горящая щель.
Скажи, моя отрада,
зачем на свете жить? —
услышать плач ребенка
и звездам послужить.
И звезды смотрят из своих
пещер или пучин:
должно быть, это царский сын,
он тоже ждет, и он один,
он, как они, один.
И некая странная сила,
как подо льдом вода,
глядела сквозь светила,
глядящие сюда.
И облик ее, одинокий, пустой,
окажется первой и лучшей звездой.
12. Отшельник говорит
— Да сохранит тебя Господь,
Который всех хранит.
В пустой и грубой жизни,
как в поле, клад зарыт.
И дерево над кладом
о счастье говорит.
И летающие птицы —
глубокого неба поклон —
умеют наполнить глазницы
чудесным молоком:
о, можно не думать ни о ком
и не забыть ни о ком.
Я выбираю образ,
похожий на меня:
на скрип ночного леса,
на шум ненастного дня,
на путь, где кто-нибудь идет
и видит, как перед ним плывет
нечаянный и шаткий плот
последнего огня.
Да сохранит тебя Господь,
читающий сердца,
в унынье, в безобразье
и в пропасти конца —
в недосягаемом стекле
закрытого ларца.
Где, как ребенок, плачет
простое бытие,
да сохранит тебя Господь
как золото Свое!
1978–1982
«Тристан и Изольда».
Исполнение Ольги Седаковой Часть 1 Постмодерн
Этот цикл стихотворений Ольги Седаковой, или мы можем назвать его «поэмой», — один из самых загадочных. Он состоит из трех вступлений и 12 стихотворений-эпизодов, и в нем отсутствует центральная линия, которая бы вела повествование от эпизода к эпизоду. Нам не придется насладиться той простой логикой, что ведет смысл от предшествующего эпизода к последующему, или же той, что, выделяя серию ключевых эпизодов, опирается на заранее вызываемый из памяти сюжет.
1. Рыцари едут на турнир; 2. Нищие идут по дорогам; 3. Пастух играет; 4. Сын муз; 5. Смелый рыбак (крестьянская песня); 6. Раненый Тристан плывет в лодке; 7. Утешная собачка; 8. Король на охоте; 9. Карлик гадает по звездам (заодно о проказе); 10. Ночь. Тристан и Изольда встречают в лесу отшельника; 11. Мельница шумит; 12. Отшельник говорит.
Каждая из остановок, станций цикла кажется произвольной. В выборе эпизодов мы не найдем ничего из того, что предположительно могли бы ожидать. Пожалуй, кроме той ключевой для повести сцены, когда король Марк застает Тристана и Изольду спящими: да и здесь нет ни спящих, ни сцены, на которой появился бы Марк, а есть полубезумный шепот короля, конь и ниоткуда взявшийся олень.
Каждое стихотворение — не повествование и не иллюстрация. Определившись с таким «не», мы как будто бы вкратце указали на все те изъятия, что производит из обычной «нарративной» поэзии — поэзии сюжетов, эмоций и чувств, описаний и иллюстраций — старое требование «чистой поэзии». Еще в конце XIX века ее на своих парижских вторниках проповедовал Стефан Малларме, утверждая математику чистой формы на месте повествовательного перетекания друг в друга образных элементов и информации. Сколь многих тогда убедил Малларме извлечь корень чистой поэзии, убирая позицию внешнего наблюдателя! Символизм разной степени тяжести (правда, чаще в упрощенной версии Верлена) разлился по всей Европе и прокатился до России. Ландшафт поэзии — высокогорье смысла и мгновенный разряд личной воли. Смысл играет словами, а не упакован в готовые фигуры, как содержимое в чемодан. Смыслом нельзя владеть, его можно только призвать. Смысл есть время, а не пространство, субъективность, а не объективность. Малларме и Верлену поверили, и вы не раз услышите цитаты их откровений на курсах по литературе XIX века в вузах и институтах. *
В нашей традиции, начиная с Блока и переходя к Хлебникову и Мандельштаму и Опоязу, такое «чистое, или «трудное» отношение к поэзии утвердилось всерьез и непримиримо. Однако чем ближе к нам по времени оно подступает, тем больше мы начинаем чувствовать неудобство. Последний скандал с таким отношением к поэзии был устроен Михаилом Гаспаровым, посчитавшим всю поэзию на счетах и показавшим, что привычные на слух сочетания мелодий стиха — это уже готовый театральный реквизит. Такое заявление подразумевает: огромное количество существующей поэтической продукции — безнадежное эмоционально-языковое старье, пустая комедия [1]. Безусловно, Ольга Седакова является восприемницей такого скандального угла зрения, которому время — уже век и которое каждый раз звучит весьма неприятно. Сей угол требует двух вещей сразу — знать наследие и уметь делать нечто принципиально новое. Уклоняясь от ударов привычного, как от приступов тоски, поэт оперирует прежде всего нашим чувством времени и отказывается от компромисса. По-старому больше нельзя. «Надо быть абсолютно современными», — писал Рембо. *
Мы не будем слишком медлить на этом месте. Лишь установим, что в цикле «Тристан и Изольда» есть форма, и она, предположительно, выведена в свое бытие, которое не нуждается в переска-зах, или повторах, или описаниях, оно сбывается на наших глазах во времени протекания произведения, в танце его слов.
Размышляя на тему этой формы, символисты вводили принцип «музыка — прежде всего», неважно, ясен или темен смысл, понятны ли сочетания объектов и вещей. Поток ассоциаций должен навеивать некое музыкальное настроение, ритмическое состояние, медитацию. Поэзия — энергетический избыток, и он покоится в метрической раме стиха, как аромат в дорогом флаконе, или плывет, как звук над пальцами пианиста и костяшками клавиш. Отметим только, что символизм слишком долго погружался в это настроение и купался в «невыразимой тоске». Избыток сил стиха понимался им как то, что нельзя растратить, как то, чему жизнь не дает места. И отсюда «ностальгия» — тоска по неведомому дому, по утраченному, по прошлому. Настоящего и будущего в символизме нет. Авангард, отказываясь от мелодики, разбивая речь на грамматические элементы и звуки, лишал слова привычных смысловых мест во имя настоящего и будущего. Он отбрасывал «связи со всегда бывшим» и высекал новые мгновенные смыслы и новую музыку. *
Прежде чем приступить к разговору об этом цикле, или даже лучше — поэме в эпизодах, заметим следующее: между Ольгой Седаковой и корпусом символистов и авангардистов — говоря условно и очень резко — стоит еще один поэтический мир. Так до конца и не ставший корпусом, а всегда видный только в профиль Осип Эмильевич Мандельштам. В спешке мы не должны пропустить то обстоятельство, что смысл, о котором идет речь у Седаковой, хоть и музыкален, хоть и движется «над словами и сочетаниями», одновременно меньше всего похож на «неясный звук» или просто музыкальный душевный настрой. У Седаковой смысловые колебания интеллектуальны и всегда нацелены на понимание. Седакова, как и Мандельштам, требует труда понимания — чтобы мы умели быстрее восстанавливать «пропущенные звенья» той отлично скованной смысловой цепи, которая затем, как под воду, погружается в пробелы между словами. Смысл — это клад на дне. И Мандельштам — главный учитель этого искусства — требует от нас именно быстроты мысли. Но для чего? Не для того, конечно же, чтобы мы, подняв «всю цепь», раскрутив ее, увидели «самое простое» высказывание, лежащее в основе стиха, которое, вообще-то, при усилии можно переложить ямбами и хореями в четырехстрочных куплетах. Мандельштам надеется, что тот смысл, который блеснет с особой быстротой, раскроет нам новый мир, новый способ думать, и видеть, и слышать. Пусть на миг, но нас охватит настолько необыкновенная идея, что мы застынем в динамическом моменте ее созерцания. Поэзия чистой формы в ее интеллектуальном аспекте — это поэзия невероятного речевого активизма во имя мига созерцания в конце, где прошлое, обращаясь, переходит в формы настоящего и будущего, соединяя устремления символизма и авангарда.
Карл Густав Юнг как-то высказал идею, что опыт восхождения альпиниста на гору, когда «мир открывается впервые», и есть опыт творения мира. Есть точка, в которой все видно. Сам наш взгляд и есть творение. Когда великие абстрактные мировые формы горного ландшафта расстилаются пе-ред нами. Таков смысл Мандельштама. Между ним и Ольгой Седаковой — десятилетия опыта, еще десятилетия столкновений чистой формы и данных реальной жизни. И потому смысл Мандельштама тоже уже не предел. *
Пафос восхождения, столь свойственный поре 1920–1930-х, уже давно отступил в прошлое. Между Осипом Мандельштамом и Ольгой Седаковой пролегает огромный путь исторического «провала», лагерей, мировой войны, десятилетий конформизма. Когда горы уходят под воду, что остается? Остается, если отвечать, следуя выбранным образам, «поверхность глубины». И ее накрывает вода — слез, памяти, жалости, молчания и сна. И вода, как и пение, музыка, — настойчивый и постоянный образ поэмы «Тристан и Изольда». Северную арфу берет певец, чтобы начать вступление. Поет Тристан, поет море, поет девушка на берегу (эпизод с рыбаком, не входящий в исторический цикл), поет Изольда, песней является подаренная Изольде «утешная собачка», поют копыта рыцарей, едущих на турнир, а там, где вроде бы и не поют (король, карлик), — там рыдание. Поет-шумит мельница, играет пастух на дуде, а если отшельник и не поет — то звучит молитва. Все двенадцать эпизодов — музыкальные, предваренные тремя музыкальными «вступлениями». И вся эта музыка является еще и неким «состоянием воды». «Купель», где плещется роза легенды, — у рыцарей, «мельница, льющая воду» — у отшельника, «рыдания» — у карлика, стихия моря — у Тристана.