Бобо
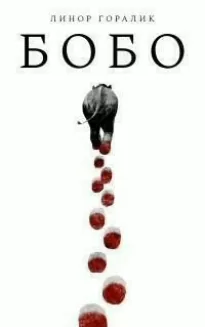
- Автор: Линор Горалик
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Бобо"
На прощание к нам привели школьников — фотографироваться со мною и с маленькой бронзовой фигурою слона, установленной перед цирком. Зорин очень мило понадписывал этим школьникам открытки, которые они для него сделали и ему хотели подарить, а он любезно им эти самые открытки подарил обратно. Был мокрый, светлый, звонкий апрельский субботний день; мне шлось легко, принятое решение холодило мне мозг, я был царский слуга и ничего больше и знал, что ничем никогда больше не буду. Подвода наша постукивала по асфальту; мерин Гошка, оказавшийся большим любителем поговорить, болтал, не закрывая рта, о своих батьке с сестрицей, которые остались в Богучаре и по которым он, видимо, сильно тосковал; когда же эта тема исчерпывала себя, он переходил на «сраную русню» и пересказывал мне с ненавистью все, что видел в стойлах по телевизору. Я слушал его внимательно; мне о многом хотелось спросить, я ждал только момента, когда Яблочка не будет с нами рядом и он не будет фыркать на каждое Гошкино слово так раздраженно и не будет раз в три минуты вскрикивать: «Тошнит же! Да перестань, тошнит же!..» В результате я не заметил, как мы встали на одном месте и довольно давно уже стоим.
Я очнулся: на перекресток нас не выпускали два человека в черном, с круглыми стеклянными головами, и от вида их настроение мое тут же испортилось: о, я помнил таких, помнил хорошо. Кузьма пошел к ним вперед, и я увидел, как он достает золотую свою бумагу; тут же они подобрались и откозыряли ему. Кузьма помахал на них рукой, и я услышал, как он спрашивает:
— Так, а что, долго стоять-то будем?
Люди со стеклянными головами переглянулись; лиц их я не видел, но по всему понятно было, что отвечать им не хочется. Наконец один из них сказал:
— Думаем, минут пятнадцать-двадцать, товарищ… господин ваша честь. Антиобщественное поведение в загсе, где-то тут бегают, сейчас перехватим.
— Господи помилуй, — изумился подошедший Сашенька, — что ж они там в загсе делали? Перепились?
Стеклоглавцы опять замялись.
— Да говорите как есть, — сказал Кузьма, улыбаясь. — От нас какие секреты, вы же сами понимаете.
— Тем более от меня, — сказал, скромно вскидывая ресницы, Сашенька и вытащил из кармана какую-то маленькую синенькую книжечку.
При виде книжечки стеклоглавцы одновременно подтянулись и оживились.
— Разрешите представиться, — сказал один и представился по полной форме, на всякий случай откозыряв еще раз, причем дубинка его, качаясь на запястье, чуть не дала маленькому Сашеньке по носу. Фамилия его, как выяснилось, была Евсеев. Второй оказался Мусаевым, но козырять не стал.
— Так что, пришла пара ребят молодых, значит, в загс заявление подавать, вроде выглядят нормально. Девушка высокая, пацан поменьше. Стали что-то там подписывать, сотрудница, значит, смотрит, а они бумажками меняются. Ну и, короче, девушка — это мужик, а пацан — это, значит, девушка. И говорят: а мы трансы. Так им сначала повезло еще, сотрудница пожалела их, старушка, говорит: ребята, не дурите, уходите потихоньку, придите нормально одетые, примем заявление, дальше делайте что хотите, не моя забота. Короче, оказалось, они это нарочно, у них гости все — блогеры какие-то, либерасты хуевы — вы извините, — пресса какая-то, иностранцы еще. Берут, разворачивают, значит, флаги свои полосатые, и начинается: никуда не уйдем, принимайте заявление, какая вам разница, как мы одеты, это дискриминация, и давай все снимать. А в загсе еще люди, многие с детьми пришли, вот же суки, такой день людям портить! Ну, сотрудники в полицию позвонили, конечно, охрана их взяла, стала выводить, они орут, ну, тут уже винтилово пошло, мы автозак подогнали, так ребята наши мягко еще, не хотели на камерах и на людях это самое… Ну и людям праздник портить… Короче, они как рванули и где-то тут бегают, вы уж извините, а это пропаганда, счас разберемся, мы тут перекрыли пару улиц… Минут пять— десять буква…
И тут я увидел их. Они бежали на нас — выбежали слева из-за угла, выбежали, держась за руки, — две фигурки, одна в длинном пуховике на короткое белое платье, вторая в короткой куртке поверх черного костюма с радужным галстуком, и я не понял даже, зачем они бегут посередине улицы, их же видно, зачем же они бегут? — и тут за ними из-за поворота выбежали те, другие. Человек десять, и видно было, что некоторые, в черном, бегут уже долго, от самого загса, а другие, просто люди как люди, присоединились к ним прямо на улицах, что эти бегут недавно, бегут, потому что хотят бежать, и именно они кричали: «Да они щас влево возьмут! Слева их обходите, пидарасов!..» или «Мишка! Миха! Я справа зайду!..» Фигурка в платье явно могла бежать быстрее, но тащила, тащила за собой фигурку в костюме, и люди в черном уже нагоняли их, они неслись по проезжей части под крики «Стойте, пидары!.. А ну стоять!..» — и вдруг, пытаясь соскочить с проезжей части на узкий тротуар, чтобы нырнуть в проходной двор, фигурка в платье, которой мешал, очень мешал длинный, широкий, болтающийся за спиной черный пуховик, споткнулась и выпустила руку фигурки в костюме. Та помчалась вперед, потом резко затормозила — и успела увидеть, как плашмя падает фигурка в платье, и как быстро переворачивается на спину, и закрывает лицо руками, и лежит. Фигурка в костюме бросилась назад, упала рядом с фигуркой в платье на колени, затрясла ее и попыталась поднять.
Лежит на асфальте маленькая женская фигурка в длинном черном пуховике, лежит, не шевелится. Трясет ее за плечи мужская фигура в черном костюме.
Что я помню дальше? Буквально несколько секунд.
Я помню мелкую дрожь в ногах и в животе, от которой мне внезапно делается смешно: как будто муравьи ходят у меня под кожей и мне всему целиком хочется чесаться.
Я помню, что передние ноги мои вдруг поднимаются на уровень моих глаз и снова делается мне смешно: да я вроде циркового слона сейчас!
Я помню, как иду на стеклоголовых, и вот уже нет на моем пути никаких стеклоголовых, иду на тех, в черном, кто пытается поднять с земли сопротивляющуюся, бьющуюся, как рыбки, о землю пару фигурок, — и вот уже нет рядом с парою никого, никого.
Я помню, как ярость и ясность звенят в голове моей и как мне от них замечательно и прелестно, а еще помню четкое ощущение: как бы я ни захотел, ничего я с ними сделать не смогу; голос Нинели отчетливо говорит у меня в голове: «Э, да это муст, мой хороший мальчик!» — и я с интересом думаю: «Э, да это муст!..»
Я помню, как отдаю себе отчет, что через несколько секунд уже не буду способен запомнить ничего, — ярость заполняет мой мозг, вытесняя ясность, тягучая, слепая, алая ярость, накопившаяся во мне за эти добрых два месяца.
Я помню, как Квадратов, ставший крошечным, крошечным квадратиком, мужественно встает передо мной, когда я в очередной раз поднимаюсь на задние ноги и трублю, трублю песнь моей ярости во всю силу своих легких, и пытается говорить со мной ласково и разумно, и помню, как успеваю подумать, что он хороший человек, Божий человек, будь я способен разбирать слова его, я бы, наверное, им внял, да вот увы.
Я помню, как Кузьма кричит Аслану:
— Сделайте что-нибудь! Да сделайте же что-нибудь!..
И Аслан, сжавшийся в комок у Кузьмы за плечом, кричит ему:
— Мне нужны иголки! Иголки и сладкие булки!.. Надо начинить булки иголками!..
И последнее, что я запомнил, перед тем как пошел своей дорогою, — это кулак Кузьмы, точно и основательно прилетающий Аслану в глаз.
Глава 13. Григорьевское
Не помню, как явился я в Григорьевское и что натворил в Григорьевском и как я убрался оттуда.
Глава 14. Коломна
Не просто ел я, нет, — я каждый кусок смаковал бы, если бы следующий кусок не манил меня так невыносимо. Весь рот у меня был в креме и крошках, и хобот в креме и крошках, и бивни в креме и крошках. Одно бесило меня — что те, кто (по видимости) разложил для меня здесь эту замечательную, потрясающую еду, подобной которой я в жизни своей не пробовал, зачем-то каждый отдельный торт упаковали в какие-то пластиковые прозрачные коробки, страшно мне мешавшие; мне приходилось кидать их на пол и мять легонько ногой, пока они не ломались; но они ломались, к счастью, быстро и легко, и, господи, как же вкусно, как же хорошо мне было! Если бы еще не звук этот, не этот ужасный звук, словно визжала надо мною целая стая бонобо, требуя и себе порцию, и не странная боль во всем моем теле, будто много-много недель одновременно били, кусали и резали меня, при этом ни на секунду не давая прилечь… Еще и голова моя, казалось, была стянута ледяным колпаком — я пару раз даже проверил хоботом, не надета ли на мне случайно мокрая шапка, любовно связанная мне Сашенькой, но всякий раз тут же и вспоминал, что, как только погода сделалась теплей, Сашенька эту шапку с меня снял, просушил хорошо на солнце и убрал куда-то в глубь подводы… Но что это я говорю о шапке — господи, как же я ел! Только голод мой все не утихал, и я попытался воскресить в памяти, будто бы сквозь какую-то серую пелену, когда же это я ел в последний раз? Вспомнил я, как завтракал в цирке на манеже; потом вдруг словно ударило меня что-то в переносицу — вспомнил я… Словом, вспомнил я, что последовало за тем завтраком; а дальше что же было со мной? Помню, как на каком-то шоссе видел колонну велосипедистов и стал валить их в грязь по одному и тех, кто пытался уехать от меня, догонял и валил, и помню, как хрустит велосипедное колесо и как долго торчала у меня из-под колена спица, а мне и вынуть ее было недосуг; помню избу и как сквозь ту избу иду и какая-то бабка мискою на меня машет, а я на задние ноги встаю и взревываю, и она миску роняет, а мужик ее за телевизор прячется, а в телевизоре показывают лошадиный секс; помню, как несусь я по лесу, а надо мной небо черное мелькает среди веток, и бешено, бешено мне, а за мною два волка мчатся и лают, задыхаясь: «Да ты стой, мужик! Да стой, попиздим, мужик!..» — а мне так бежится, так бежится, что я глаза закрываю и вдруг со страшным треском врезаюсь в дерево и валю его, и надо мной начинает рыдать, мечась и проклиная меня, целая семья обездомевших соек, а мне бежится, мне бежится бешено, бешено, бешено, и я бегу… Липкая, приторная тошнота вдруг поднялась во мне; я отрыгнул заварным кремом и сглотнул его с отвращением. Ледяная шапка на голове превращалась в раскаленную, от головной боли я похлопал веками — свет мешал мне; звук, представлявшийся мне прежде визгом стаи бонобо, оказался воем какого-то прибора; с трудом развернувшись и пошатнув какую-то полку, заставленную печеньем, отчего она медленно, с грохотом, завалилась назад, я увидел выбитое огромное окно и красно-синее свечение, исходящее от белых с синим машин за этим окном, и вдруг выключилась чертова сигнализация и стало так тихо, что звон в моих собственных ушах оглушил меня. И тогда в разбитое окно, пригнув голову, чтобы не порезать лоб о край висящего кое-как и покачивающегося на ветру стекольного осколка, осторожно вошел Зорин.
Меньше часа спустя лежал я на оцепленной поляне у стен Коломенского кремля. Боль догнала меня: болело у меня все; были со мной лишь Аслан, ползавший по мне с инструментами да пластырями да шипучей жидкостью, каждая капля которой причиняла мне страдание, и Толгат, сидевший около моей макушки и гладивший бедную мою голову, и Зорин с Мозельским, беседовавшие в стороне с полицейскими: остальные ушли заселяться в гостиницу неподалеку. Стыд, жгучий стыд мучил меня сильнее боли, а к стыду этому подмешивался лютый страх, от которого немели щеки: что теперь сделают со мной? Надежды на лучшее не было ни малейшей, и я решил, пока Аслан терзал мою плоть, вынимая из нее осколки стекла и занозы и смазывая кровоподтеки и ссадины, подвергнуть терзаниям свою душу, устроив с собою честный разговор об ожидающих меня перспективах. «Что же, — сказал я себе, — сегодня же вечером ждет тебя, видимо, военный суд, какой положен всякому служивому, самовольно покинувшему службу. Председательствовать на нем, ясное дело, будет Зорин, и с ним будут осуждать тебя, надо полагать, Сашенька и Мозельский, как они есть люди с оружием. На защиту твою, если положена тебе вообще защита, может быть, позволено будет встать Кузьме, а скорее что и нет. Приговор тебе, ясное дело, вынесен будет один из трех: либо казнят тебя, что очень даже вероятно, либо приговорят к заключению на срок, какой покажется им соответствующим грехам твоим, либо, неведомо какой милостью, просто с позором уволят тебя и вышвырнут вон со службы. Лучше бы всего тебя казнили — на том и кончатся страдания твои; заточение ужасно, ты видал его своими глазами, — что ж, ты его заслужил и вынесешь с достоинством, а не вынесешь, так ты уж как-нибудь добудешь иголок… Но если вышвырнут тебя вон, если с позором придется тебе идти сегодня же ночью куда глаза глядят…» При этой мысли не сдержал я стона, и Аслан, решив, что каким-то особым способом причинил мне страдание, не в пример себе сказал: «Ну-ну, потерпи, бедный скот, немного осталось: я уже почти в ногах…» Самое ужасное было, что резиновые мои шлепанцы продержались на мне все это время, но веревки от них так изрезали мне голени, что я помыслить боялся о том, как Аслан их снимать будет, и если бы раньше за «скота» лупанул я его хоботом или двинул ногой, то сейчас решил, что заслужил это слово сполна, и даже не пошевелился.





