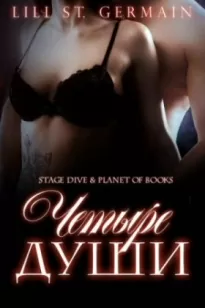Городской пейзаж

- Автор: Георгий Семенов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Городской пейзаж"
В подобных случаях мужчины часто переоценивают свои возможности и, расшифровывая женский взгляд, сплошь и рядом желаемое принимают за действительное. Некоторые женские натуры с такой откровенной внимательностью и очарованностью рассматривают порой мужчин, что только у редкого стоика может не вскружиться голова при встрече с таинственным зовом невинного и ясного света, льющегося из глаз юной красавицы. А красавица тем временем вовсе и не думает завлекать или каким бы то ни было способом очаровывать мужчину, а лишь смотрится в него, как в зеркало, проверяя лишний раз свою силу, делая это машинально и по привычке, точно так же, как она смотрит в глаза своего собственного отражения, оставаясь наедине сама с собой. Спору нет, утерянная стыдливость, с какой проникают в душу упорные взгляды некоторых из них, может смутить и мужчину далеко не застенчивого в своих помыслах и прилежного семьянина, не помышляющего о любовных похождениях, одинаково приведя души их в трепетное движение. Чего вовсе нельзя сказать о мнимой бесстыднице, в головке которой нет и следа легкомыслия, как и вообще может не быть в этот момент какой-либо определенной мысли о том человеке, в глаза которому она смотрится, а развращенный тип, ловящий доверчивые взгляды, считает уже себя вправе составлять свое собственное мнение о всех женщинах как о легко доступных ему сексуальных особах, только и ждущих, чтобы их поманили пальцем. И мнение это он готов отстаивать, хотя в жизни довольствуется только совсем уж неразборчивыми красотками, стыдясь показываться с ними среди друзей.
Но как бы то ни было, старший Луняшин, после того как Пуша сказала со вздохом:
— Сколько ни говори, а на завтра все равно останется, — и поднялась, чтобы идти домой, старший Луняшин на прощанье с особенной нежностью прощупал, словно четки, пластичные пальцы Ра, перебрав их в своих и опять по-родственному приложился к ее щеке, почувствовав и на своей ответный поцелуй, мандариновую прохладу губ, пропахших воблой, эту вопиющую несовместимость ощущений и запахов, которая особенно будоражила его весь вечер и все время, пока они ехали с Пушей домой, и дома, когда он в предсонном воображении вспоминал таинственную прохладу ее сочных губ и резкий запах воблы, смачную соленость поцелуя, стараясь как-то оправдаться перед самим собой и притупить волнение, угнетавшее его, когда он вспоминал, что Раенька беременна.
Он с зевотой сказал Пуше:
— Вышел сегодня покурить, а Рая тут как тут… Все-таки никак не может бросить курить. Женщине вообще что-нибудь бросить — пить или курить — почти невозможно.
— И ты, конечно, угостил, — сказала Пуша. — Зря. Как раз на этой стадии — ни в коем случае.
— Если женщина просит, как это в песне… Если женщина просит, — шутливо нараспев отвечал он Пуше, а сам смотрел на нее и сравнивал, смотрел и думал: «Как же здорово она целуется, чертовка. Не с Федей же научилась! Нет, не с ним. До чего ж проникновенно!» — и думая так, облизывал потихонечку свои губы, помня истаивающее ощущение ее губ, заразу этого лихорадочного поцелуя… — Снегопад, снегопад, если женщина просит, — бормоточком напевал он. — Ничего страшного! Одна сигарета — что она может? Родит богатыря, у нее кровь сильная. И еще какого богатыря! Красавца! А может быть, и красавицу.
И не знал, думая о Ра, что она в это время мыла еще посуду и убирала в квартире, совсем не вспоминая о Борисе. Губы ее шевелились, она тихонько напевала невразумительное, что-то вроде страданий или частушек:
— Чай пила, конфеты ела и забыла, с кем сидела… Чай пила, конфеты… Феденька! — звала она мужа, который сонно откликался и с удивлением смотрел на жену. — Ты бы ложился спать. Что ты маешься? Все в порядке. Доехали, спят уж, небось, а ты все ждешь. Ой, чай пила, — задумчиво начинала она снова напевать, — конфеты ела, — звеня посудой в стальной мойке. — Феденька!
— Нет, — отвечал Феденька с глуповатой улыбкой. — Он должен позвонить обязательно. У нас такой порядок. Он обязательно позвонит.
Впервые в жизни старший Луняшин, приехав из гостей домой, не позвонил младшему. Он поднял было трубку с аппарата, но передумал и положил обратно. Вдруг раздался резкий и требовательный в ночной тишине телефонный звонок.
— Боренька, милый, я тебя не разбудил? — раздался в трубке в шепоте телефонной тишины тоскующий голос младшего Луняшина. — Я очень волновался. Не позвонил. Почему? Хорошо добрались? А я тут беспокоился, я боюсь, Боря, что ты вдруг за что-нибудь обидишься на меня. Нет? Ну прости меня за это… Я ведь не переживу! Я все время чувствую себя человеком, который жил себе и жил, а потом вдруг купил себе барометр и стал наблюдать. Во мне теперь этот барометр где-то в душе сидит. Смотрю на стрелку, давление падает, а мне страшно. Ничего не случилось, а во мне уже страх, что надо готовиться к худшему, раз оно падает. Смотрю со страхом, до какой отметки упадет… А вдруг до семисот пяти, вдруг ураган? Раньше бы жил и жил и ничего не знал про давление, а теперь вот зачем-то знаю и почему-то боюсь. Стрелка на семистах шестидесяти, все прекрасно, давление нормальное, а у меня опять сомнения — надолго ли. Вот такая жизнь у меня началась, и ты, Боренька, пожалуйста, не забывай меня и обязательно звони. Обязательно! Слышишь меня? Ну и хорошо. Спокойной ночи. И попроси у Пуши прощения, я, наверно, и ее разбудил. Прости. Да, вот еще что! Ра у меня тут спрашивает, не смог ли бы ты еще воблочки достать? А почему не по телефону? Что? Не понял… Ладно, я передам ей привет… Понятно, Боренька! Прости.
Борис доплелся до белой кровати с высокой резной спинкой, удобной и мягкой. Пуша, дремлющая на такой же, стоящей, как в спальне дорогого гостиничного номера, рядом и отделенная от Борисовой белой тумбой, на которой тлел оранжевый ночник, спросила сквозь дрему:
— Чего ему там?
— Воблы, — с дремотной сердитостью ответил Борис. — Просит по телефону, как будто я могу пойти, стать в очередь и купить ему воблы! Ох, Федя, Федя!
И он, укрывшись до подбородка белым пикейным одеялом, на которое был надет пододеяльник с голубыми горошинами, опять подумал о запахе воблы, о чувственности Раенькиных губ, воображая опять лестничную площадку и ее рядом с собой… Но воображение, обычно подвластное ему, на этот раз не слушалось, видение не приходило, действие не развивалось, как будто в зале, где он сидел, зажигали то и дело свет и экран белым прямоугольником возникал из темноты — пленка часто рвалась, зрители были недовольны, фильм был очень интересным, но почему-то ни одной сцены не мог вспомнить Борис, сидя в освещенном зале перед пустым экраном, на котором виднелся шов.
Через несколько дней он был ошеломлен поведением Пуши и не знал, что подумать, не знал, как вести себя, и долго не мог побороть смущения.
Вечером после работы в ожидании ужина он сидел перед телевизором и смотрел мультфильмы, до которых был большой охотник. Пуша была на кухне, дети на улице. Солнечные лучи уже лепили пятна на блистающем лаком песочно-желтом паркете, было очень светло в комнате, изображения на экране туманны, рисованный фильм простодушно глуп, и время текло бессмысленно.
Пуша позвала его, и он щелкнул клавишей выключателя телевизора.
То, что он увидел на кухне, где они всегда ужинали, когда были вдвоем, не считая детей, которых кормили отдельно, — тот натюрморт, что нахально разлегся на столе, поразил его воображение…
На серой оберточной бумаге, пропитанной жиром, лежали куски грубо нарезанной, неразделанной сельди с костями и бурой грязью внутренностей, на деревянной дощечке лежали толстые куски черного, очень мягкого хлеба, на клеенке валялся пучок зеленого лука в брызгах воды, в тонких стаканах серебрилась холодная водка, бутылка которой нагло глядела на Бориса дешевой этикеткой, косо наклеенной на голубоватое стекло.
— Давай-ка по стопарю, — сказала Пуша, с азартной злостью пополам с весельем. — Хочется, черт побери! Хочу вот так… — Она выпила свою водку до дна, отерла губы, морщась, схватила кусок хлеба, лук и жадно стала есть, со слезами разглядывая растерявшегося мужа. Потом схватила руками кусок селедки, разодрала его, выдавила пальцами на бумагу внутренности и, блестя жирными губами, стала тоже жадно и быстро есть.
Борис смотрел на нее в полном недоумении и ничего не понимал.
— Что с тобой? — спросил он.
— А так…
— Что так?! Как на вокзале…
— Хочется, — с вызовом бросила ему Пуша. — Надоело все. Захотелось, — отвечала она, блестя пунцовыми жирными губами и зло улыбаясь. — Давай, давай, садись…
Борис, чувствуя, что краснеет, попытался вспомнить, какой сегодня день и нет ли особенного какого-нибудь повода для такого странного выпивона, но ничего не вспомнил и, не узнавая Пушу, которая сразу опьянела и лицо которой пошло алыми пятнами, строго спросил:
— Что все это значит? Где дети?
— А черт их знает, где они, — отвечала жена и продолжала жадно поедать селедку, хлеб и зеленый лук.
Он с пугливой злостью смотрел на нее, не зная, что и подумать, взял свой стакан, но пить ему не хотелось, и он поставил его на стол. И в этот самый момент, когда стакан коснулся донышком стола, Пуша швырнула на стол недоеденный кусок селедки и расплакалась.
У нее началась истерика. Она пискляво твердила ему сквозь слезы, что она старая, что ему пора завести себе молоденькую, что ей надоело быть домашней работницей, надоело сидеть дома и что он погубил ее жизнь, которая сулила ей так много радостей, такая интересная у нее была профессия, съеденная теперь детьми и домашним хозяйством, ненавистным ей бытом, бытом, бытом… Она все это твердила крикливым слабым голосочком. Круглое ее лицо было залито слезами, маленький ее носик стал как будто еще меньше, тоненькие губки дрожали, густые брови страдальчески вознеслись на крутой лоб, рыдания колыхали все ее тело. Она вспоминала студенческие годы, беспечную жизнь, вокзалы, поездки на практику…
— А ты… ты говоришь… как на вокзале! Да, как на вокзале. Захотелось! И не как на вокзале вовсе! Как в купе! Сколько радости было, господи! А теперь гоняюсь за пылинкой, стригу детям ногти — и все! Ногти стригу детям и тебе… Вот и вся профессия!
Борис понял, что это бунт, что вечер безвозвратно пропал, и, не зная как подступиться к бунтующей жене, бледный и злой, строго спрашивал то и дело:
— Что все это значит?! Ты можешь мне ответить, что все это значит? Ты хочешь, чтобы я с тобой напился? Я ничего не понимаю. Разве нельзя по-человечески?
— А я не по-человечески? Да? Не по-человечески… Я как раз по-человечески. Мне надоело все… господи! Не по-человечески… Да, конечно, я не человек… Где уж мне по-человечески…
Спорить или что-либо доказывать ей было бесполезно. Борис знал, что это скоро пройдет у нее, что однажды с ней уже было подобное, но тогда, в начале совместной их жизни, она бунтовала совсем по другому поводу — тогда она упрекала его, что у нее ничего нет, что все ее подруги одеваются как королевы, а она рядом с ними золушка, что он, взяв ее в жены, погубил в ней личность, превратив в домашнюю хозяйку, и, помнится, тогда она тоже что-то говорила о стрижке ногтей…