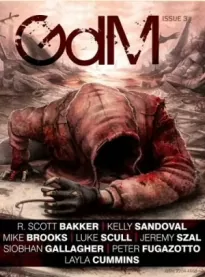Чапаев. Мятеж

- Автор: Дмитрий Фурманов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Чапаев. Мятеж"
– А вы? – спрашиваю Климыча.
– Тоись новоселы, што ль?
– Да, вы-то как живете?
– А мы вот то-то и дело, што – «как живем». Плохо живем, одним словом. Годов-то десяток пройдет, и мы окрепчаем, а пока што – никуда не годится. Нету у нас ничего, окромя земли. Да и земля – какая она; не везде одна… Сунься вон на Каюк-гору, как она тебя камушком-то щелкнет…
– А вот рассказывают, Климыч, – обратился я к вознице, – будто киргизы, так эти и вовсе нищими живут. У них и того нет, что у вас, новоселов?
Мне любопытно было послушать, что он ответит на этот скользкий вопрос. Климыч ответил не сразу. Полминутки помолчал. Потом осанисто расправил карюю бороду-лопату, потрогал себя за нос, сплюнул и, глядя перед собою в пустую равнину, словно только для нее выжимая слова, медленно выговорил:
– Все лень одна.
– Как лень! – изумился я.
– А то што? Лень… И начисто лень, больше нет никаких причинов. Ты сам посуди, господин хороший…
– Не господин – товарищ, – поправил я.
– Ну, товарищ, все одно, – согласился он невозмутимо. – Я, к примеру: вот она, весна подошла. Што я делаю? Не все же вашего брата, комиссару разную, катаю, – язвнул он, – бывает, что и работать возьмусь. А уж как возьмусь работать – лови меня по полю с утра до ночи. Пахота миновала, яровые приготовил – там колесом закружило: травы подошли, сенокосы, жнитво, а под осень – опять ее, матушку, ковыряй, загодя думай, што надо… Так весь мокрый от пота и ходишь все месяцы. А он што, киргиз? Сел на кобылу, свистнул, да и был таков – лазит тебе по горе, мурлычет, скотинку пасет… Скотинку пасти – што не пасти? А вот с землей повозись, тогда узнаешь кузькину мать.
Я дал ему, Климычу, выговориться до конца и стал объяснять, почему киргизы занимаются главным образом скотоводством, какое это длительное и трудное дело – от скотоводства и непрестанных кочевий осесть на землю, взяться совсем за иное, за непривычное дело. Сказал Климычу, что и Советская власть заботится о том, чтобы кочующих киргизов превратить в оседлых…
– Да, превратишь его, – ухмыльнулся Климыч. – Ему на што любо по горам-то шататься: это тебе не землю пахать.
– У них же и земли нет по-настоящему пахотной, – говорю я Климычу, – нет навыка к работе, ни плуга, ни бороны, ни серпа – ничего нет.
– А кто ему велит… Пробовали, давали. И борону давали, и серп… Повертит-повертит в руках, даже и работать, пожалуй, возьмется сгоряча, а потом плюнет, марш на кобылу – только его и видели. Поэтому крестьянин здесь и дружбу с киргизом не ведет… В этом самая сила.
– Значит, дружбы нет? – задаю ему острый вопрос.
– Оно не то штобы нет, а и не то штобы есть, – разводит Климыч мудреную, непонятную философию. – Где как водится – тоись насчет этой дружбы. Старожилы их самих уж больно не любят: собаки, говорят, какие-то блудущие, да и только… Ну, старожил – ясное дело, не любит отчего: богат не в меру. Где ему киргиза бедного за человека, да еще за равного, себе сосчитать. Он, поди, и нашим братом гнушается – новоселом. А новосел за то не уважает киргиза, что к труду он неспособен. Единственно. А что впрочем – тут ладно идет… Одно слово, ладно…
Я долго пытался внушить Климычу мысль, что исторические периоды в жизни целых народов чередуются в известном порядке с железной, неумолимой последовательностью; что каждый киргиз в отдельности ни прав, ни виноват в том, что он кочевник, что он до сих пор не осел на землю, что не занимается пока земледелием и т. д. и т. д. Я все хотел ему доказать одно: что какого-то особенного, прирожденного национального порока во всем этом нет и быть не может, что все эти особенности были бы свойственны и любому другому народу, если бы только он оказался в совершенно таких же условиях, как киргизы. Климыч слушал внимательно. Даже перестал окончательно высказываться сам и усиленно, сосредоточенно пытался ухватить какую-то одну, самую коренную, самую главную из высказанных мной мыслей.
– Коли он ни при чем, так я, значит, тоже ни при чем. Я, значит, что бы ему ни делал, что бы ни говорил – так оно тому и быть? Так, што ли?
Он простыми, неуклюжими словами подходил к глубочайшему вопросу материалистического учения: свободен человек в поступках своих или нет. Сам по себе он поступает, человек, тем или иным образом, или обстоятельства, условия – предшествующие и настоящие – заставляют его поступать именно так, а не иначе?
Это был воистину преинтереснейший разговор. Я не помню его в подробностях, но знаю, что вместе с Климычем мы оглядывались на жизнь киргизов до наезда сюда богатых крестьян, потом припомнили, что заставило крестьян кинуться саранчой именно в Семиречье (обильные нетронутые богатые земли; выгодные условия, предложенные царским правительством; дешевая жизнь; легкая возможность забрать в кабалу забитое киргизское население края и т. д.), вспомнили, как себя крестьяне вели по приезде, как измывались над местным населением и как по праву заслужили со стороны киргизов глубочайшую и искреннейшую ненависть. Когда мы все эти факты перебрали по пальцам, когда подвели все итоги:
– Ну, что, – говорю, – Клим Климыч, как, по-твоему, рассуди своей умной головой, могли после всего этого как-нибудь по-иному сложиться у крестьян отношения с киргизами или с крестьянами у киргизов? По-моему нет…
– И по-моему, нет, – сознался откровенно Климыч, – а все-таки он, киргиз, лодырь.
После такого неожиданного заключения я даже рассмеялся. Это чуть-чуть обидело Климыча.
– Вам, комиссаре, известно – смешки, а нам тут туго вместе-то жить…
И разговор повернулся на иные темы. Я видел, что насчет «комиссаре» надо ему кой-что сообщить поподробнее, указать, кто они и откуда берутся, разъяснить, что это совсем особенные «комиссаре», не те, которые записываются в партию лишь для получения мануфактуры, и что тех мы из партии выгоняем.
Основное состояние Климыча при разговоре со мною – было состояние недоверия. И все же в конце, в итоге любой темы я видел, что если он не поверил моим словам, так уж во всяком случае усомнился в своих: а это тоже немалое дело – поколебать человека в его привычках, мертвенно-окостенелых взглядах. Надо сказать, что какого-либо систематического разговора вовсе у нас не было, с темы на тему скакали мы с быстротой молниеносной, к одной и той же теме возвращались по нескольку раз.
– Вот за Каюк приедем – сухо будет, – сообщил деловито Климыч и, переждав, добавил: – все пузо утрясло…
– А где это Каюк?
– Где Каюк? Да вот он самый тут и есть, по ём стали ехать… Вишь, гора…
Климыч насчет горы загнул рановато: подъем начинался только версты через три, а Каюк в эту сторону, к Бурной, издали был как-то даже и не особенно приметен. Мое отношение к Каюку, видимо, не понравилось Климычу.
– Ты сам-то откуда будешь? – спросил он совершенно неожиданно.
– Из-под Москвы, а что?
– У вас там, поди, и вовсе гор нет никаких, что у нас по Харьковской.
– Какие горы…
– То-то вижу: человеку всегда обвыкнуть надо, чтобы сразу понимать али видеть…
Мы за разговором дотряслись до подножья Каюка и стали заметно подниматься в гору – и чем дальше, тем круче-круче. И трудно и любо. Мы уж соскочили давно со своих опасных вышек и перескакивали с камня на камень. Когда миновали подъем, открылось широкое ровное пространство, по которому выпирали всюду огромные каменные глыбы. Эти глыбы местами на двадцать – тридцать шагов представляли ровную, гладкую площадку, а то вдруг выскакивали каменными тумбочками, одна за другой, – подобно тому, как торчат памятники на татарском кладбище. На Каюке просторно, вольно, легко. И помину нет той непролазной глинистой грязи, по которой все время хлюпали мы от самой Бурной. Здесь совершенно сухо, местами даже пыльно. Дорога кружит и мечется из стороны в сторону, приноравливаясь к местности, обходя неудобные скалистые места, выбиваясь на ровные плоскогорья. А когда начали спускаться и круто повертывали за скалы, вырываясь из тесных стен – одна за другой, одна другой прекрасней развертывались картины широких лугов, бескрайней дороги. За Каюком, под горою, сразу поражает какая-то особенная тишина. Здесь и самый воздух как будто легче, светлее, и дышать свободнее, чем по ту сторону, и дорога совсем иная; широкая, ровная, укатанная, без малейших рытвин, без ухабов, по которым так намаялись-натряслись перед торой.
Как только спустились вниз – попали на развалины древнего караван-сарая. По преданию, когда-то был богатый и гостеприимный перепутный пункт, в котором любили останавливаться проезжие: и сами могли отдохнуть и коней, взмыленных перегонами, подкормить, – платили за все грошами, а то и в долг питались у знакомого гостеприимного чимбая. Все шло хорошо, как вдруг чимбай – хозяин караван-сарая – куда-то бесследно пропал. Говорили, что он уехал к себе на родину, в один из горных кишлаков в тянь-шаньских ущельях. Стали содержать караван-сарай его двоюродные братья. И вот в глухую осеннюю ночь на Каюке какие-то молодцы наскочили на ехавший обоз… Была свалка – с ножами, с криками о помощи, со смертельными хрипами и стонами умиравших.
Слышали это в караван-сарае. Но никто не отважился в глухую пору побежать на помощь. И до утра не знали ничего: в трепете провели остаток ночи, а с зарею, когда пошли дознаться, что было на горе, увидели там пять трупов, зарезанных и задушенных, а повозки были разграблены, и все было растащено или разбросано тут же около телег, возле трупов. Лошадей тоже не было – их выпрягли и угнали. И с той самой ночи пошла про Каюк дурная молва. Недаром пошла она: то проезжего, то прохожего задушат, оберут до нитки, угонят лошадь, пустят в чем мать родила.
И стали доглядывать за братьями, которые поселились в чимбаевском караван-сарае. Брало сомнение, что не без их помощи проходят на Каюке все эти черные дела. И дознались: разыскали как-то трое прохожих солдат армяки и тулупы, снятые с убитых на Каюке проезжих сельчан. Когда не было дальше никаких сомнений, а народу вдосталь съехалось в караван-сарай, выкатили из погреба бочку с керосином, облили с разных сторон преступное гнездо и зажгли. В пылающее пламя связанными бросили обоих братьев и спалили их вместе со всем добром. С тех пор на месте караван-сарая только груда камней да разрушенная печь торчат сиротливо и угрюмо.
В этот милейший приют мы теперь и приехали. Климыч быстро выпряг лошадей, задал им корму, а сам начал возиться с возами: подправлял, подтягивал, засматривал с разных сторон, зубами раскручивал тугие узлы и опять упаковывал, перевязывая наново, ухватив веревку и крепко упираясь коленкой, словно засупонивал хомут. Он все время, пока стояли, хлопотал с возами, даже не присел и тогда, когда дела возле них уже не было явно никакого. А мы вчетвером, как водится, расположились сейчас же с хлебом, с яйцами. Не удивляйтесь в двадцатом году хлебу и яйцам, – Семиречье и в те годы голода не знало, хлеб и яйца там были совсем не в диковинку. А тут уж близко и к сытым местам. От караван-сарая поехали быстрее по гладкой, ровной дороге. Скоро были в Головачевке. А за Головачевкой – и в Аулие-Ата. Головачевские мужики, надо сказать, приняли нас совсем негостеприимно: в два-три дома толкнулись за молоком – не дали наотрез, а когда хитрая, лукавая бабешка из богатого высокого дома согласилась дать, то заломила настолько невероятную цену, что мы только отблагодарили ее уж совершенно «невежливо» (выражаясь скромно) и с проклятиями поехали дальше.