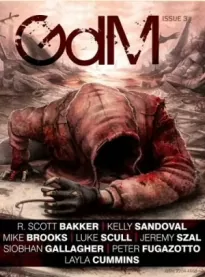Чапаев. Мятеж

- Автор: Дмитрий Фурманов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1985
Читать книгу "Чапаев. Мятеж"
…Положение таково: или мы волей-неволей откажемся отнять землю у захватчиков и разрешим этим захватчикам ее обработать, возделать, собрать хлеб, – тогда вся область по осени будет с хлебом, с хлебом, которым питаться станет и местное население и беженцы… Или мы – ради буквы приказа, совета или чего там хотите – сгоним сейчас же с захваченной земли кулачков, не позволим ее обрабатывать, передадим беженцам, которые, конечно, тоже обработать ее не смогут, и тогда… Тогда осенью мы без хлеба… То есть достаточно его не соберем. Кулак, разумеется, сумеет быть сытым, и про себя он заготовить сумеет. А вот этот самый беженец киргиз – он как раз и будет с осени голодать. Что ему лучше, что выгоднее? Сесть ли теперь же на голую землю, считать ее за собою и право иметь на ее обработку, но не суметь обработать и к осени остаться без хлеба, или отказаться этой весной, – теперь, когда пахота началась, – отказаться от передела, подождать с переделом до осени, а теперь землю оставить захватчикам: пусть обрабатывают, от этого вся область с осени будет жить сытнее… Конечно, надо идти только второю дорогой. Первая приведет к гибели. В этом вопросе теперь надо правде смело посмотреть в глаза. И решить. И не бояться того, что нас назовут кто-то и где-то колонизаторами, предположат, что мы работаем на пользу кулачкам и против интересов киргизской бедноты… Пусть. Это потом узнается. Будет понятно. Не дорожите эффектом минуты, смотрите в корень дела. С точки зрения агитационной, конечно, надо было бы сейчас же землю передать беженцам: это к нам бы многих расположило… но не будем увлекаться эффектом. Другие, более серьезные соображения ведут нас по иному пути. Разместить беженцев, помочь им материально, даже кой-где и в самой пахоте помочь – инвентарем ли, скотиной ли, семенами, опытом своим – это наша срочная задача. Но не будем до осени превращать этого дела в решительное, поголовное, окончательное. Может быть, в январе мы это с вами и сделали бы спокойно и успешно, а в апреле – не будем, в интересах дела не будем, воздержимся и пошлем в Ташкент объяснительную телеграмму…
Спорили. Доказывали друг другу превосходство своего плана.
Тряслась, металась золотая грива взволнованного Кушина, пришептывали сухие юсуповские губы, чавкал три слова слюнявый Пацынко, сверкал искорками глаз голосистый «Кумурушка». Нервничали. Много курили. В комнате от дыма чуть видны лица. Только слышны голоса – высокие, дрожащие, взволнованные.
После долгих, упорных боев единогласно решили послать центру телеграмму с изложением своих взглядов и с просьбой отложить передел до осени. Там разобрались, убедились в серьезности доводов, через день по телеграфу известили, что считают постановление ревкома в данных условиях целесообразным: передел отложить.
Второй вопрос того первого и памятного мне заседания – это вопрос о Копальском и Лепсинском уездах, разоренных войною, обнищавших до последней степени, остановившихся в ужасе перед страшной и неизбежной голодухой, сплошным вымиранием. Делали доклад. Развернулась скорбная картина.
В этих уездах целые годы царские генералы и полковники – Щербаков, Анненков, Дутов, Бабич – вели изнурительную, разрушительную, кровавую войну, собирая и мобилизуя казачество, ополчая его на крестьянство, на киргизов, на всех, кто стоял по эту, по другую сторону, кто знать не хотел ни Колчака, ни сибирского правительства, кто твердо или нетвердо держал в руках советское знамя. Белые генералы и полковники через Семипалатинскую область связывались с Колчаком, и слышно было, что получали от него немалую помощь. Так держали они полоненным весь север и северо-восток Семиречья до весны двадцатого года. А весной были прикончены. Были разбиты, изгнаны с остатками в Китай, в те самые места, куда четыре года назад от озверелых царских шаек спасались в смертной панике таборы киргизов. Красная Армия шла по освобожденным уездам – все дальше, все глубже, до самой китайской грани. И ее встречали по селам со слезами тревожной радости, с восторженной, исступленной благодарностью, встречали матери, жены, братья, отцы, сыновья – и так встречали еще потому, что она была здешняя, семиреченская, много было в ней и копальцев и лепсинцев. Звонкой радости не было нигде: по селам шаталась голодная смерть. Бойцы не узнавали свои семьи, а семьи не досчитывались тех, что растерзаны были генеральскими палачами. По селам стон стоял, когда проходили полки красноармейцев: узнавали, где и когда сгибли братья, мужья, сыновья, – тревогой встречали, рыданиями провожали красные полки.
И бойцы, потрясенные еще глубже этими картинами скорби и отчаяния, напрягали, удваивали силы, торопясь нагнать скачущих где-то впереди генералов. Но догнать было невозможно: чем острее погоня, тем ожесточеннее скачущие генеральские шайки. Лишь заслышат они, что по следам крадутся разъезды красных, что вот-вот настигнут они, захватят, – и беглецы бросают измученных, взмыленных коней, выбирают новых, свежих, лучших; прикладами, шашками, пулями сокращают протесты и стоны сельчан; увозят остатки хлеба, фуража, а что не могут увезти – складывают в груды и сжигают, чтоб не досталось преследующим победителям. Если где попадались у хозяина жнейки, молотилки, плуг ли паровой, – здесь было в свое время немало и этого добра, – коверкали, ломали, разбивали в бессильной злобе и отчаянии беглецы.
– Эх, не доставайся же никому!
И красные полки проходили по разоренной, голодной местности, где хлеб был увезен или сожжен, где уведена была скотина, поломано и разграблено хозяйственное добро, а сами сельчане или кишлачники – запуганы, изнурены, замучены. Жители одичали, – словно голодные звери, бродили они по запустелым поселкам, тщетно отыскивая пищу. И в этом голоде, среди непрестанных испытаний пришла новая неизбежная беда: из села в село, из одного кишлака в другой поползли болезни – сыпняк, брюшной, цинга и еще какие-то неведомые доселе страшные дети голодной страны. Целые поселки вымирали начисто; некому было ни лечить, ни хоронить; трупы гнили по хатам, валялись по улицам, – зрелище было невыносимое, ужасное. Откуда-то появились мародерские шайки; они налетали на опустошенные деревни и кишлаки, отбирали остатки и все увозили с собой. Бороться с этими шайками было некому, а они все плодились, росли, все жестче расправлялись с населением, и без того вымирающим, замученным, обреченным…
В глубоком молчании выслушивали мы трагический доклад. По крупицам все это долетало до слуха нашего и раньше, но лишь впервые зарисована так полно, с такими подробностями ужасающая картина действительности. Она поразила всех. Было совершенно очевидно, что необходимы исключительные меры, иначе все население или вымрет мучительной смертью, или хлынет неорганизованно по другим уездам и районам и сомнет, запрудит, остановит всякую работу, затянет узел так крепко, что потом его не развязать. Надо было торопиться, а в то же время и многое надо было выяснить, прежде чем принимать какие-либо меры.
Прежде всего, наутро из тех самых мест должны были возвратиться начдив Панфилов и комиссар дивизии Бочаров: с ними надо было держать совет, узнать последнее положение дел, узнать их мнение.
Кроме того, надо было выяснить в земельном отделе, что можно отсюда двинуть из инвентаря на помощь разоренным хозяйствам; надо было точно выяснить наличность хлеба в Кугалинском и Гавриловском районах, которые к разоренным ближе других и которые, бесспорно, смогут прийти на помощь; надо было прикинуть места для ссыпных пунктов, куда можно было бы и хлеб свозить и семена на запашку… Многое надо было выяснить предварительно, такое выяснить, без чего не стоит и огород городить… Так на этом собрании и не вынесли решенья, а когда через день приехали Панфилов с Бочаровым, собрались в ту же ночь (это была как раз пасхальная ночь) и порешили немедленно выехать туда специальной комиссии во главе с Кравчуком, дав ей полномочия и от ревкома и от партийного комитета, влить в эту комиссию по три представителя от каждого областного комиссариата; наметили места для ссыпных пунктов; уполномочили комиссию гнать в голодную местность из соседних районов и хлеб и семена, а для того мобилизовать не только коней, но и верблюдов, даже по преимуществу верблюдов, так как по глубоким безводным пескам кони не выдержат, тем более что по пути нет ни корма, ни питья…
Комиссия уехала.
И мы скоро услыхали, что она широко, удачно развернула работу; сумела выяснить наличие оставшегося в целости инвентаря, пустила его в оборот, возбудила охоту к коллективной запашке, на которую особенно подгоняли нужда и нехватки: мы услышали, что комиссия тронула туда и хлеб на помощь и семена на запашку, что собрала верблюдов, что помощь оказала колоссальную, – и население простерло к ней руки, видит только в ней свою надежду, ждет от нее помощи и спасения. Комиссия организовала повсюду революционные комитеты, даже партийные ячейки, кружки молодежи… Выяснилось, что Копальский уезд пострадал меньше, и внимание сосредоточилось главным образом на нуждах Лепсинского района. Помощь помощью, а всем и во всем помочь, конечно, было невозможно, и лепсинцы одиночками то и дело кочевали, растекались по другим уездам. Перекочевали они и в Верненский район, – особенно это узнали мы и почувствовали позже, в дни мятежа…
На том самом собрании, когда решался вопрос о комиссии Кравчука, я впервые увидел Белова. На нем была дрянная, старая солдатская шинелишка, истрепанный картузишко чуть держался на затылке, цепляясь за рыжеватые жесткие волосы, торчавшие круто, подобно кабаньей щетине. Бородка – окончательно рыжая; усы – той же масти; борода и усы обгрызались им, и ежедневно на каждом заседании и в часы обдумывания приказов и докладов, почему и отпадала нужда в бритье – все без бритвы подравнивалось острыми чистыми зубами. Светло-серые глаза не были красивы, но в них отпечаталась глубокая искренность, верное чутье, точная, серьезная мысль… Он редко смотрел в глаза собеседнику, и получалось впечатление, будто он смущен или недоволен, но ни того, ни другого не было, – самые невинные, безобидные вещи он говорил с тем же неизменно серьезным видом и все так же, по-бычьи упершись взглядом под землю. Он привлек меня с первого взгляда. И этот первый взгляд не обманул: мы с Панфилычем стали потом большими приятелями, особенно после испытания в дни мятежа, где я увидел настоящую цену этому кремневому, честному человеку. В ревкоме к голосу его прислушивались внимательно: советов глупых он не давал ни разу; красок не сгущал, не запугивал, но и не успокаивал, обстоятельства взвешивал всесторонне и учитывал обстановку до мелочей – потому всегда и советовал дельно, умно, практично.
С ним пришел Бочаров, комиссар – под пару Белову: твердокаменная, непоколебимая фигура; звезд с неба не схватит, но без Бочаровых ни одна дивизия так победоносно не закончила бы свою боевую страду, в тяжкие минуты он был всегда там, где и приказывала обстановка, никогда не прятался под страусово крыло, ни разу не втирал очков ни себе, ни другим по части опасностей, среди которых проходила наша работа – в дни мятежа держался достойно, не сфальшивил ни одним шагом, ни единым словом.