Годы без войны. Том 1
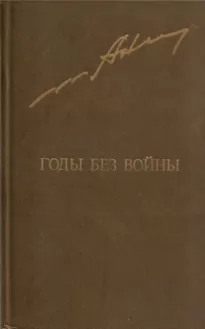
- Автор: Анатолий Ананьев
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Годы без войны. Том 1"
XXII
Для Кудасова то, что он сказал, было его наблюдение жизни; он не хотел обидеть ни Карнаухова, ни Мещерякова, которых прежде, до этого вечера, никогда не видел; но он сейчас же, как только они заговорили, почувствовал в них то противоборство мнений (и в плане истории и в плане будущего развития), какое в прошлом, как яблоко раздора, из десятилетия в десятилетие постоянно кем-то будто подбрасывалось в русское общество. Начиненное, в сущности, теми же старыми, но лишь слегка подновленными идеями, яблоко вновь чьими-то ловкими руками подавалось теперь на общественный стол жизни. И хотя Кудасов не связывал это непосредственно ни с приездом де Голля в Москву, ни с успехами проводившейся социалистическими странами миролюбивой политики в Европе, но он хорошо знал, что многие деятели Запада были недовольны этой политикой, особенно недовольны были растущим авторитетом Советского Союза, недовольство их, а вернее контрмеры, предпринимавшиеся ими, неуловимо и непонятно каким образом, но отзывались ненужным беспокойством в деловой и целеустремленной жизни московской интеллигенции. Кудасов чувствовал это; и чувствовал руку, подающую яблоко; и хотя в подтверждение он не мог привести никаких фактов (как и сотни других, понимавших то, что понимал он), но он считал своим долгом сказать это, что он думал и чувствовал, особенно здесь, среди гостей Лусо, настроение которых было так или иначе отражением общественной жизни.
Но настороженность Кудасова не была принята ни Мещеряковым, ни Карнауховым.
Мещерякову не понравилось, что дипломат отводил Западу лишь ту зловещую роль, будто там только и думают, как уничтожить Советский Союз; ему показалось, что это было старо и шаблонно — так представлять Запад (тем более что сам Мещеряков никогда не испытывал на себе как будто никакого тлетворного влияния Запада); и он, потеряв интерес к дипломату, отвернулся от него. Еще более все высказанное старым дипломатом было неприемлемо доценту Карнаухову, который считал, что национальные чувства людей нельзя смешивать ни с какими иными вопросами и что если и есть разлагающее влияние Запада, то именно в том, что народ хотят лишить национальной самобытности; Карнаухов сделал было движение, чтобы возразить дипломату, но затем, лишь скептически усмехнувшись, тоже отвернулся. Вслед за ним постепенно начали отворачиваться и отходить и приверженцы взглядов Мещерякова, и приверженцы взглядов Карнаухова, и в освободившееся пространство неожиданно выдвинулся Арсений. Он вышел из-за спины сидевшей перед ним Наташи и живо и с интересом сказал дипломату:
— То, что вы говорите, по-моему, очень близко к истине. — И он тут же стал развивать перед Кудасовым ту свою теорию серединности, которая, в сущности, ничего общего не имела с только что высказанными соображениями дипломата, но была к месту тем, что в ней осуждались крайности. — Я вполне согласен с вами, — говорил Арсений, соглашаясь, разумеется, не столько с Кудасовым, сколько с собой, с теми своими доводами, каких всегда придерживался в разговорах с Карнауховым и Мещеряковым. — Никакой прогресс был бы невозможен без совокупности усилий всех народов земли. Нет наций особых, избранных, мы все равны перед лицом истории, и я удивляюсь, как многие из нас до сих пор еще не могут понять этого.
— Философия избранных всегда была опасной философией, — подтвердил Кудасов.
— Крайность, я говорю, крайность!
— Иногда просто крайность, а иногда и нечто большее. На Женевской конференции… — Кудасов встал, чтобы ближе видеть собеседника, и точно так же, как и Арсений, как будто в продолжение общей беседы заговорил о том, что было ближе ему, о недавно прошедшей в Женеве конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, в подготовке которой он принимал участие. Взяв Арсения под руку, он потянул его к окну, затем к двери и принялся ходить с ним по кабинету, все более и более увлекая его этими своими еще свежими воспоминаниями.
Лусо, еще в самом начале разговора ушедший посмотреть, как накрывался стол, и поторопить официанта, был теперь в прихожей и принимал последних запоздалых гостей, которые шумно поздравляли его. Мария Павловна, наклонясь к пожилой даме, отвечала ей на какие-то совершенно далекие от политики и приезда де Голля в Москву вопросы, а к Наташе, как только она осталась одна, сейчас же подсел тот самый с низко подбритыми висками молодой человек, который с самого начала вечера взглядами счастливо волновал и смущал ее.
Это был племянник Лусо, журналист и начинающий писатель Геннадий Тимонин. Он готовился к поездке в Пензу, чтобы освещать, как он говорил, сенокос, и накануне отъезда был теперь на дядиных торжествах. Лусо любил племянника и считал его перспективным молодым человеком; точно так же думали и говорили о Тимонине и в разных журналистских и литературных кругах. Среди коллег-журналистов Тимонин распространял о себе мнение, будто заниматься как следует газетными репортажами мешают ему писательские дела, а среди литераторов — будто его заедает газета, и это в его устах звучало так убедительно, что и в той и в другой среде относились к нему с пониманием и сочувствовали ему. От него ждали, что он напишет что-то основательное; но он держался среди друзей так, будто это основательное было уже создано им, и он уже будто начинал уставать от славы, отягчавшей его. «То, что вы знаете обо мне, это только десятая доля того, что я могу» — было постоянно на его улыбающемся лице. Он родился в Москве и жил в Москве, но все, что писал, — все было о деревне, о чем писало и говорило теперь большинство литераторов и о чем модно было писать и говорить. На трудностях (еще в недавнем прошлом) деревенской жизни можно было быстрее и легче всего, как это думал Тимонин, нажить писательский капитал; жизнь колхозников вызывала сострадание, но жизнь городских людей (то есть та жизнь, какою жил сам Тимонин и какая была более известна ему) была иной и не могла вызвать тех же чувств у читателей, а потому и немодно было и неинтересно писать о ней. Но, выставляя деревню как образец нравственной и духовной чистоты, сам Тимонин, однако, продолжал жить той своей привычной городской жизнью, которая, если судить по его высказываниям, была дурной, извращенной и несвойственной естеству человека, но если судить по его всегдашнему веселому настроению — была интересной, наполненной и нравилась ему.
Среди гостей, толпившихся в просторном дядином кабинете, Тимонин выглядел самым молодым. Он был, как и большинство мужчин, в нейлоновой рубашке, темном костюме и в своих серебряных с камнями запонках, которые, как глазки, проглядывали в белых и жестких манжетах его рубашки; но запонки эти ни на кого не производили того впечатления, какое они производили обычно, когда Тимонин появлялся среди косарей-механизаторов на лугу или среди трактористов в поле (или в той же дорогомилинской гостиной, где завсегдатаи относились к нему не просто как к москвичу, но как к представителю мыслящей московской интеллигенции); здесь, у дяди, среди общего блеска рубашек, запонок, перстней, костюмов и лиц Тимонин выделялся только молодостью своего лица, на котором, кроме беззаботности, счастья и преуспевания, ничего другого нельзя было прочитать. С этим веселым и беззаботным видом и с одною только как будто целью — поговорить с красивой молодой женщиной, занимавшей его воображение, он и подсел сейчас к Наташе, с удовлетворенностью заметив то счастливое беспокойство, какое было на ее лице.
— Вы здесь у нас впервые, — сказал он. — Я раньше вас никогда не видел. — И он представился Наташе, назвав себя и, как всегда, с улыбкой и после паузы добавив, что он журналист и писатель.
— Да, я здесь впервые, — ответила Наташа. «Он — писатель! Я сразу заметила в нем что-то особенное», — подумала она с тем затаенным торжеством, от которого как раз и происходило все ее счастливое беспокойство; и она сейчас же начала искать глазами Арсения, как будто боялась, что вдруг разорвется та связь с ним, которая все эти недели так тепло согревала ее.
— Вы ищете мужа? Вон он с дипломатом. — Тимонин приятно улыбнулся. — Вам так к лицу ваше платье, — затем сказал он, — да, да, я давно наблюдаю за вами, и если бы я был художником, непременно выбрал бы вас для своей картины. — И он, смущая и еще более заставляя краснеть Наташу, ладонью дотронулся до ее руки, словно хотел убедиться в гладкости ее кожи. — Если бы я был вашим мужем, я бы гордился вами, — добавил он и движением глаз указал на Арсения, увлеченно говорившего с дипломатом.
«Как вы молоды, и как он стар» — вместе с тем выразили его глаза.
— Вы читали мои книги? — чтобы снять неловкость, тут же спросил он. — Я пишу о деревне, о нравственной красоте человека, — не дожидаясь, что скажет Наташа, и стараясь упредить тот ответ, что книг его не читали, какой чаще всего приходилось слышать ему, пояснил он. Правда, на подобный ответ у него была своя оговорка, что, дескать, теперь пишут и печатают так много, что разве за всем уследишь? Но оговорка все же не избавляла от дальнейшего неприятного объяснения. — Жаль, у меня ничего нет с собой, я бы вам с удовольствием надписал. С удовольствием. — И он опять, заставив вспыхнуть Наташу, притронулся к ее руке.
— Сейчас много пишут о деревне, — сказала она. — И, по-моему, все об одном и том же, а хочется почитать уже что-то более современное, более возвышенное.
— Ну что вы, напротив, я думаю, нет ничего более современного, чем писать о корнях народной жизни, — поспешно возразил Тимонин. Его как будто совершенно не касалось то, о чем только что спорили Карнаухов, Мещеряков и Кудасов; он чувствовал лишь, что должен сказать Наташе что-то красивое и умное, что вместе с тем выглядело бы как его собственное мнение о народе и народной жизни. — Какой бы нравственный вопрос мы ни затронули, все упирается в деревню, в мужика. Я много езжу, — для убедительности того, что он говорил, добавил он, — и наблюдения и выводы очень любопытны. Вот, к примеру, когда деревенский человек общался с природой не через трактор, а через пегую или, скажем, буланую лошаденку, он более чувствовал себя человеком, потому что жизнь той же буланой лошаденки зависела от него, от мужика, мужик видел в себе высшее разумное существо, и сознание, что он как бы стоит над природой, рождало в нем чувство достоинства, что он — человек, — говорил Тимонин о том, что по логике вещей, казалось ему, должно было быть несомненной истиной. — Человек с большой буквы, если по-горьковски. А мы теряем это чувство достоинства. По объективным причинам, но теряем. Мы видим вокруг себя только машины, и техника порой настолько сложна, что она подавляет человека, и я, извините, я уже не высшее разумное существо, каким мог бы чувствовать себя от рождения. Разве это не современность? Нет, что вы, нам надо возвращаться к истокам жизни, и это одна из самых острых современных проблем, — заключил он с тем чувством, будто никто и ничем не мог возразить ему. — А впрочем, хватит о литературе, — добавил он. — Но вы сами, заметьте, сами напросились на эту лекцию. Да, да, — сказал он, приближая к Наташе свое улыбающееся молодое лицо, выражавшее совсем иные желания и мысли, чем те, о которых он говорил ей.





