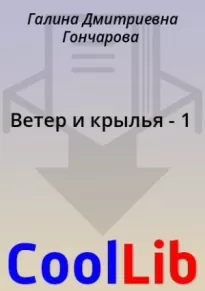Между Бродвеем и Пятой авеню
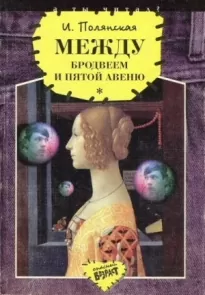
- Автор: Ирина Полянская
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1998
Читать книгу "Между Бродвеем и Пятой авеню"
...И тут в наш диалог включается третий голос, голос мамы, и мы никак не можем захлопнуть перед ним двери, хотя нам не хотелось бы, чтобы она покушалась на созданный нами образ отца. Но мама настойчива, она взывает к нашему чувству справедливости. Бросив все дела, с налипшей на руки тертой морковью она входит к нам: «Ах, девочки, все не так, неправда!» — «Что неправда? Что перед цветком — ниц?» — «О нет, это как раз правда, узнаю его в ваших рассказах и вижу перед глазами. Неправда, что все его боялись. Просто люди чувствовали его ум и силу, к продавцу или же к чиновнику он обращался с заведомой уважительностью, сразу предполагая в каждом из них человека в высшей степени порядочного и мастера своего дела. Речь его была классически правильной, говорил он медленно и чувствовал ответственность за каждое произнесенное им слово, у него был приятный голос и старинная манера общения — он несколько наклонялся к собеседнику и с участливым вниманием задавал вопросы...» — «Постой, мама, не горячись, сейчас-то мы как раз свидетельствуем в его пользу, ты не поняла, мы говорили о его любви к природе, мы обмакнули свои кисти в мягкие пастельные тона — одним словом, речь идет о природе, а боялись его люди или нет, не станем спорить с тобой, каждый останется при своем мнении, мамарина. Поднесем еще раз к глазам эту картину: он склонился над цветком...»
...Хрупкость и нежность простого цветка повергали его в изнеможение, смертная тоска по жизни стискивала его сердце, когда он странным взглядом следил за облаками. Пьешь-пьешь, и все мало, и все не напьешься, все не знаешь, как подступиться, чтобы вдоволь напиться, надышаться, и ясный день уходит, и иного бытия не отпущено... Возможно, именно таков был ход его мыслей. Иногда он брал нас в сад на окраине города, в чудесный ботанический сад, имеющий черную чугунную ограду, замкнувшую на себе нашу память, кабы не розы — розы с именами такими же прекрасными, как имена звезд, нам нравилось пробовать их на звук. Папа Майян, пурпурная, бархатная, с круто заваренными лепестками, с огромной температурой в самой сердцевине, раскаленный до черноты вихрь. Кусты Татьяны приподымали жгучие, багровые, с запыленными, как у бабочек, крыльями цветы, растущие на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы краса каждого в отдельности была неоспорима, чтобы между цветками было много воздуха. Рыхлый, вызывающе крупный барон Э. де Ротшильд, нарядный, как с бисквитного торта; желтый в красных брызгах Пер Гюнт; роковая червонная дама Лили Марлен на низком кустарнике; нежизнерадостные бледно-лиловые цветы Майзера Фасонахта, монстры среди роз, похожие на припудренную Жизель из второго акта; буйный розовый Саспенс и, наконец, небесная, классическая, проникновенная Дольче Вита... И снова голодный взгляд с теневой стороны сада, чтобы видеть розы все разом, скопом, прекрасной толпой, царством расточительной красоты, райской спелости мира. В ушах отца, должно быть, звучала музыка.
Мы часто сопровождали его на прогулках и бывали довольны тем, что мало-помалу в роще или у пруда он перестает замечать нас. Он становился рассеян, в эту минуту его можно было с легкостью обобрать или выведать все его тайны. Он сидел на траве, и по его большой мирной ладони взад-вперед ползала милая божья коровка. Вот коровка отлетала, отец вставал и шел напролом через кустарник, через темнеющий лес, шел и шел, шагал прямо и исступленно, и я не махала ему вслед руками, не пошла провожать его дальше; когда он окликнул меня из глубины парка, я опрометью кинулась бежать и до сих пор бегу не разбирая дороги, закрыв лицо руками. И когда я вернулась домой, вошла в нашу опустевшую квартиру, вдруг одна вещь ударила меня в грудь: мамин портрет, который отец всегда возил с собою, куда бы он ни ехал. Мамин портрет висел на стене.
На той фотографии наша мама сидит на поваленном дереве в своем лиловом крепдешиновом платье, освещенная столь щедрым солнцем, что его лучи выходят за рамки и наполняют нашу комнату исступленным светом былого. Голова ее запрокинута, волосы светятся, золотятся в летнем воздухе того дня. Отец снял маму в сосновом лесу — ты чувствуешь запах хвои в кабинете? Самое яркое пятно на этом снимке — мамино лицо, мама блаженно надкусывает травинку, думая о том, что у нее родится сын. Вот эта былинка — последнее, что подарила фея Золушке, отправляя ее на бал. Мамино лицо так и тянется за нею, пьет через нее воздух... Не правда ли, так и хочется продолжить каждую сосну за рамку, раскатать во всю ширину поляну, на которой фотографировал маму отец, подсадив на поваленное дерево, продолжить до неба июльский воздух и таким образом восстановить всю ее загубленную жизнь...
Мы помним ее усталой и надломленной, тянущей крыло из-под руин развалившегося дома. Она как тень неустанно бродила по комнате и с места на место переставляла предметы. Все, от массивного шкафа до статуэтки музы с лирой в руках, утратили постоянное местожительство: не успевала пыль обвести подножия часов на серванте, как они уже переходили на холодильник в кухне; трельяж кочевал по углам, как новогодняя елка. Дом втягивал в себя мелочи безвозвратно: варежки, логарифмическую линейку, ножницы — ничего нельзя было найти, все уворачивалось от рук и пряталось. Мама постоянно что-то искала. «Ну как же, я точно помню, что в эту вазу положила облигации. Геля, ты убирала последняя...» — «Я ничего не видела, ты сама куда-то сунешь, а потом нас терзаешь». — «Что я, с ума сошла, что ли? Вот в эту вазу!» Вызывающе гремела посудой на кухне, электрические искры пробегали даже по полу, когда она принималась выворачивать наизнанку ящики стола, боль сияющими кругами расходилась по квартире от ее мечущейся фигуры, ее голос проникал во все закоулки, а ее шаги начинали наводить на нас тот же унылый страх, что и разгневанный топот отца. Гелины гаммы долго соперничали с ее нарастающим раздражением, наконец и Геля не выдерживала, срывалась со стула и бросалась на поиски, не столько веря в их успех, сколько просто приноравливая себя к течению урагана. Но не было облигаций, покоя не было. Фурии носились по комнатам, роняли стаканы, дыбом стоял ворс на диванном ковре, хлопали двери. «Нет, я ничего не путаю, вот в эту вазочку, дай, думаю, положу, специально еще запомнила...» Хотелось на этом сквозняке как-нибудь выбрать себя из жизни, хотя бы простейшим методом отчисления, истаять — в мириадах возможностей развести прадедов, уговорить судьбу, чтобы наши дедушка и бабушка жили в разных городах, а другие дедушка и бабушка никогда бы вместе не играли на любительской сцене «Отелло», бросить гребень между родителями, чтобы на их пути друг к другу восстали непроходимые леса, разлились моря; вычесть из любви любовь, разъять время, уничтожить самую надежду на свое появление.
Что, что можно было придумать еще?
Мы знали, конечно, что жизнь прекрасна и удивительна — об этом нам часто говорил отец, большой жизнелюб, вечный жизни поклонник, — но мы не знали, когда же она наконец начнет становиться удивительной и прекрасной, когда исчезнет в душе это напряжение, скованность, на преодоление которой уходили многие силы.
Особенно выть хотелось тогда — выть и бить стену кулаками, — когда появлялись некоторые из соседей. За закрытой кухонной дверью мама развертывала перед ними полотно нашей жизни, которое они могли разглядеть и в замочную скважину. Она щедро утоляла чужую потребность к пересудам и сплетням, под подобострастные кивки и влажные аплодисменты она распинала себя и нас, пока последний зритель не исчезал. Страшно было появиться на кухне и застать обрывок исповеди среди горы грязной посуды. Мама оставалась одна и с горящим, лицом смущенно спрашивала, не хотим ли мы есть?.. Она сорвала голос на воспоминаниях.
Как-то мама призналась нам, что самые тяжелые минуты тогдашней ее жизни были связаны даже не с теми огорчениями, которые мы, точно соревнуясь друг с другом, доставляли ей, а вот с чем: раз в месяц она ходила на почту получать на нас алименты.
— И чего тут такого, — утешала ее Ира, наша соседка, которая тоже получала алименты на сына. — Это дело законное, это платит тебе государство, оно обязало вашего папу, иначе бы ты от него шиш чего получила.
— Не говори так, — возражала мама. — В этом смысле Александр глубоко порядочный человек, щедрый, щепетильный. Он посылал бы в любом случае, даже еще больше бы посылал, если б я позволила — ведь он любил девочек.
— Оно и видно, — фыркала Ира, — любил, крепко любил. Поди, ждет не дождется, пока девкам стукнет по восемнадцать, вот тогда он черта лысого будет тебе посылать.
— Ирочка, ты очень озлоблена, — мягко возражала мама, — нельзя думать о людях только плохое.
— Да, Мариночка, — в тон ей говорила Ира, — озлоблена, еще как озлоблена. Для меня один черт — бросил дитя, так вот посылай теперь не посылай, все равно ты скотина, так-то.
В притихшей угрюмой очереди за алиментами мама была самой тихой. Она уже знала всех одиночек, стоявших в очереди, и они знали ее. Каждая женщина пыталась сделать равнодушное лицо, и мама тоже, но ей все хотелось показать, что у нее ситуация иная, менее обидная, чем у них; и женщины, в свою очередь, старались сделать вид, что здесь они потому, что сами покинули мужей, а не наоборот. Мама получала 100 рублей 94 копейки; особенно обидными ей казались копейки, ибо круглую сумму посылают по доброй воле, а строгий, до последней копеечки, счет ведет закон. Каждый раз мама громким голосом требовала три лотерейных билета, с которых все равно ей выдавали четыре копейки. Скорее всего женщины-одиночки завидовали ей: мама получала самую крупную сумму, хоть и на двух девочек, другие не могли позволить себе лотерейные билеты. Мама на каждом из них писала: «Тая», «Геля», «Марина», — мы ничего не выигрывали.
Неожиданно она открыла для себя комиссионный магазин и сделалась его постоянной покупательницей. Мы помним эти фантастические наряды, которые с торжествующей усмешкой подносила она нам на плечиках, призывая в свидетели Иру, что они прекрасны. Ира, хитрюга, подтверждала, но подмигивала нам потихоньку. Эти замысловатые произведения мама заставляла нас примерять и, довольная, отступала к дверям, любуясь тем, как ей удается водить за нос свою небольшую зарплату. Мы покорялись маминой идее об экономии и не оказывали сопротивления оборочкам, рюшкам, фонарикам и вышивкам. «У меня настоящий вкус, — горделиво говорила она. — И вещи совсем новые, дорогие. Видно, кто-то привез из-за границы, но не подошло, вот и сдал». Мы кивали, как болванчики. Саму ее было невозможно уговорить принарядиться, тронуть губы помадой. «Не люблю молодящихся дам, — твердила она на наши попытки сделать ей прическу или даже напудрить. — Это все равно что раскрашивать огородное пугало». И мы перестали спорить с нею, мы не пытались сопротивляться, мы-то знали, что у нас есть непочатый запас жизни — помнишь, сестра?
...Но Геля молчит. Геля затаилась. Ночами она сидит на балконе, обхватив колени, и смотрит в темноту, в глубокую августовскую ночь. Голубые граненые звезды проделывают знакомый путь сквозь тонкий слой облаков, над балконом встал как вкопанный месяц. Босыми ногами пришлепала сестра, села рядом.